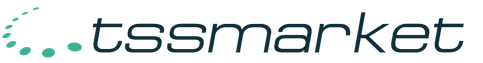В Москве в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя 1 ноября 2016 года под председательством Святейшего Патриарха Кирилла состоялось пленарное заседание XX Всемирного Русского Народного Собора на тему «Россия и Запад: диалог народов в поисках ответов на цивилизационные вызовы».
В президиуме Собора присутствовали: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации С. В. Кириенко; председатель Союза писателей России, заместитель главы ВРНС В. Н. Ганичев; председатель Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькин; генеральный прокурор РФ Ю. Я. Чайка; министр культуры РФ В. Р. Мединский; заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ И. А. Яровая; статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Г. Б. Карасин; ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова В. А. Садовничий; исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос», Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации, член Бюро Президиума ВРНС космонавт С. К. Крикалев; другие официальные лица.
Приветствие Президента Российской Федерации В. В. Путина огласил первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации С. В. Кириенко. В ем, в частности говорится: «Рассматриваю Всемирный русский народный собор как очень важную, востребованную инициативу, направленную на сплочение всех конструктивных сил общества вокруг незыблемых гуманистических идеалов и ценностей. Ведь именно они на протяжении веков задавали жизненные ориентиры и традиции нашего народа, помогали стране двигаться вперед».
Как всегда главным событием пленарного заседания стал доклад председателя ВРНС Святейшего Патриарха Кирилла, который мы публикуем ниже с небольшими сокращениями
Когда речь заходит о взаимоотношениях России и Запада, даже о самом словосочетании «Россия и Запад», то обычно возникает два типа ассоциаций. Первая связана с представлением о том, что западное общество неизменно является носителем передовых идей и достижений, с ним ассоциируются комфорт, материальное благополучие и научно-технический прогресс; российское же отстает в своем развитии. При этом, для того чтобы встать на «правильные» рельсы, России стоит только перенять социальное, политическое, экономическое направления развития, которые характеризуют жизнь Запада, то есть копировать существующие модели и внимательно изучать тенденции развития западного общества. Как показала история, такой подход «догоняющего развития» едва ли можно назвать отвечающим национальным интересам; кроме того, сам принцип «догонять» априори предполагает отсталость. Если мы догоняем, то мы всегда отстаем, поэтому в самом этом подходе, который представляет западную модель как идеал и как пример для развития, есть нечто опасное для развития России.
Второе представление выражает идею якобы непримиримого, врожденного антагонизма, существующего между двумя мирами: цивилизацией Запада и цивилизацией Русского мира.
Сторонники обеих моделей в подтверждение своей правоты могут привести и приводят достаточное количество исторических примеров. Правда, примеры эти будут носить довольно противоречивый характер.
Есть примеры, когда усвоение достижений западной цивилизации носило благотворный характер для России: как здесь, в частности, не вспомнить «золотой», пушкинский век русской культуры, и, конечно, впечатляющие успехи развития России в XVIII веке, в определенные периоды века XIX и, по крайней мере, в начале века XX.
Вместе с тем следует помнить и о том, что слепое перенесение на русскую почву чуждых мировоззренческих моделей и политических образцов, без учета национальной специфики и духовно-культурного контекста, нередко, а лучше сказать, почти всегда приводило к масштабным потрясениям и трагедиям, как это случилось в нашей стране в начале и в конце минувшего столетия.
В истории наших взаимоотношений с западным миром были и моменты открытого вооруженного противостояния, когда сопротивление агрессии было для нашего народа вопросом жизни и смерти. Так было, например, в 1612-м, 1812-м и 1941-м годах, когда мы защищали наше право на жизнь, свободу и независимость.
Но ведь и для западного общества конфронтация с Россией часто приводила к очень плачевным последствиям. Конфронтация обостряла имеющиеся противоречия, вела к большим экономическим, политическим и репутационным потерям, и, самое главное, стоила немалых человеческих жертв.
Вместе с тем важно понимать, что то, что мы называем обобщительно «западный мир», представляет собой далеко не однородную субстанцию. Есть глобалисты-транснационалисты, есть христианские традиционалисты, есть националисты-евроскептики, есть левые. И сегодня всякий раз необходимо уточнять: о какой Европе идет речь? «Европ» сегодня много. У одной религиозные ценности, у другой узконациональные, у третьей глобалистские. Нам надо понять, как относиться к каждой из них.
Вот почему обе модели, описывающие отношения России с США и странами Европы, - как догоняющая, так и конфронтационная - уже не соответствуют реальной духовно-культурной ситуации в мире. Думаю, нам очень важно это понять и от этого отталкиваться в определении наших будущих отношений с Западом.
Второй важный момент, который необходимо учитывать, - это ощущение глубокого кризиса идентичности, охватившего западное общество. В основе этого кризиса лежит противоречие духовного порядка: с одной стороны, в обществе действуют глобалистские тенденции, активно пропагандируются идеи нарочитой секулярности и утилитаризма, а с другой стороны, - всё это наталкивается на сопротивление национальных культурных традиций, имеющих христианскую историю и христианские духовные корни.
В итоге современная модель общества все менее способна воспроизводить себя. Она уже не в состоянии следовать тем идеалам, которые были начертаны на знаменах буржуазных революций XVI-XIX веков. Слова «братство» и «равенство» давно ушли из либерального политического словаря, а ведь когда-то они занимали в нем очень важное, можно сказать, центральное место. Зато появилось много уточняющих определений слова «демократия», что как раз и свидетельствует о проблемах с демократическими институтами и принципами. Та же история с правами человека. В одних точках земного шара их нарушения не замечают, в других - обращают пристальное внимание и даже гиперболизируют.
Но существуют признаки, которые свидетельствуют о возможной постепенной смене мировоззренческих координат. Об этом говорят, в частности, процессы, уже сейчас достаточно очевидные в ряде европейских стран, где возникает социальный запрос на возврат к нравственным ценностям, в том числе христианским.
Другой важный аспект сотрудничества - это культурный обмен. И здесь главное разумно отделить подлинные ценности от ценностей ложных.
Бог сотворил человека свободным. И каждый отдельный человек, и целые народы и группы народов свободны выбирать свой путь - путь культурного творчества, путь развития и, говоря религиозным языком, путь соработничества с Богом. Свобода, дарованная нам Творцом, исключает наличие единственного, безальтернативного пути развития, на котором одни народы преуспевают, а другие отстают.
Поэтому правильно было бы говорить не о встречных путях развития России и Запада и не о догоняющем векторе российского развития, но вслед за великим русским ученым Николаем Данилевским признать факт параллельного пути развития наших обществ. Параллельное в данном случае не означает изолированное. Параллельное не предполагает взаимного исключения. Параллельное настаивает на самобытности и на праве на существование обоих путей развития.
Вместе с тем, мы, представители Русского мира, призываем обращать внимание не только на изменение внешних условий нашего бытия, но и на изменения внутренние, затрагивающие человеческую душу.
Происходящий на наших глазах подрыв нравственной основы человеческого бытия грозит расчеловечиванием мира. Не случайно футурологи все чаще поднимают тему постчеловека, а трансгуманизм - учение о скором преодолении человеческой природы и появлении нового класса разумных существ - становится все более популярным.
Наконец, мы не можем не сказать о проблеме неравномерного социально-экономического развития, во многом порожденного несправедливыми международными экономическими отношениями.
Таково различие подходов по широкому спектру глобальных проблем. Вопрос, однако, заключается в том, что различие это с каждым годом, к сожалению, все более и более усугубляется. Причина тому - растущий ценностный разрыв между Россией и странами западной цивилизации, которого не было даже во времена холодной войны.
В ту пору Запад был еще един и не ставил под сомнение христианские основы своей идентичности, а в СССР, несмотря на декларативный атеизм советского государства, во многом доминировали христианские ценности и традиционная этика, сформированная в христианском обществе, что так ясно представлено в нашем советском кинематографе и нашей советской литературе. Благодаря этой общей ценностной базе и был возможен диалог, который продолжался десятилетиями, несмотря на различие идеологий и экономических моделей. Сам факт ведения подобного диалога способствовал решению множества проблем, и я уверен, в конечном счете, помог предотвратить Третью мировую войну.
Здесь я хотел бы сказать еще несколько слов о внешней деятельности Русской Церкви в то время. Вы знаете, что наша Церковь активно участвовала в так называемом экуменическом движении, - это был диалог с западными христианами. А почему этот диалог стал возможен? Да потому что в западных христианах, ввиду их, в первую очередь, этической позиции, мы видели своих единомышленников. Мы видели, что западный христианский мир разделяет, несомненно, те же ценности, касающиеся человеческой личности, семьи, отношения к Богу, природе, человеку, и это создало предпосылки для диалога. Сегодня эта общая ценностная платформа разрушена, потому что значительная часть западного христианства пересматривает фундаментальные евангельские нравственные позиции в угоду сильным мира сего. Поэтому диалог приостановился, за исключением наших отношений с Католической Церковью, потому что Католическая Церковь, - и дай Бог, чтобы так было всегда, - несмотря на огромное давление со стороны внешнего мира сохраняет верность евангельским ценностям. Наши внешние межцерковные, межхристианские связи сегодня практически не включают реальный диалог с западным протестантизмом. Это свидетельствуем о том, что появились новые разделительные линии, и не только на межконфессионального, но и явно цивилизационного характера.
Дехристианизация Европы и Америки ставит под сомнение общую ценностную основу, имевшую место на протяжении большей части XX века. Это приводит к тотальному непониманию, когда при обсуждении острейших вопросов возникает взаимная глухота. Когда одна сторона возмущенно спрашивает: «Как можно публично оскорблять религиозные чувства миллионов людей?», а другая с не меньшим возмущением задает встречный вопрос: «Как можно посягать на чье-то право свободного самовыражения?»
Необходимо признать, что вторжение в табуированные прежде деликатные сферы, в том числе в сферу религиозных чувств, осложняет взаимопонимание части европейских и американских элит не только с Россией, но и с другими мировыми культурами, основанными на традиционной религиозной этике, - в первую очередь, конечно, с мусульманским миром. Массированное информационное вторжение во многом подогревает и провоцирует рост исламского радикализма, который оправдывает свои действия агрессивной секулярной политикой и духовной беспринципностью враждебного (в их представлении) западного общества.
Поэтому вызов международного терроризма, с которого мы начали перечень общих вызовов, в отношении которого позиции России, США и европейских регионов пока достаточно близки, также должен рассматриваться в связи с проблемой разрушения традиционных нравственных, этических норм. Это взаимосвязанные вызовы, угрожающие человечеству. И возникает вопрос: а не является ли вызов и практика радикального ислама ответом на вызовы радикального секуляризма? И если глобальная экстремистская деятельность радикальных исламистов обусловлена не только мировоззренческими причинами, но и многими другими, хорошо известными политикам, ученым и всем, кто изучает проблему современного терроризма, то, по крайней мере, как спусковой крючок, как аргумент вербовки честных людей, несомненно, используется ссылка на обезбоженную и дегуманизированную цивилизацию Запада. Ничем другим честного мусульманина вы не соблазните, если не призвать его к борьбе с «диавольской цивилизацией». Поэтому нужно в связке рассматривать оба этих явления - и терроризм как абсолютно неприемлемый метод, несущий огромные страдания ни в чем не повинным людям, и радикальный секуляризм, который исключает любую иную точку зрения и предполагает, что весь мир должен выстраиваться по модели, определяемой элитами некоторых стран.
Нарастающий ценностный разрыв между цивилизациями вызывает тревогу. Если не будет достигнуто взаимопонимание, мы не сможем предложить приемлемые для всех ответы на вызовы времени. Дальнейшее углубление противоречий рискует превратиться в непреодолимую мировоззренческую пропасть.
Однако возможность продолжения диалога и «наведения мостов» не выглядит сегодня безнадежной. Множество фактов позволяют говорить о том, что фундаментальный отказ от традиционных духовно-нравственных ценностей, на котором настаивают западные элиты, не находит широкой поддержки в народе. Мы знаем, что, помимо привычного нам официоза, формируемого средствами массовой информации, есть другая Америка и другая Европа.
Внутри американского и европейских обществ существует выраженное стремление сохранить свои христианские корни и культурные традиции. Это стремление находит выражение в религиозных поисках, художественном творчестве и повседневной жизни.
Таким образом, вместе с новыми опасностями появляются и новые надежды. Встреча в Гаване с Папой Римским Франциском показала высокую заинтересованность в диалоге с Русской Православной Церковью со стороны католического мира по всему спектру вопросов, которые мы сегодня обсуждаем.
Между тем, на мой взгляд, самым острым конфликтом современности является не заявленное американским философом Самюэлем Хантингтоном «столкновение цивилизаций», не борьба религиозных и национальных культур между собой, как нередко хотят представить сильные мира сего, и даже не противостояние Востока и Запада, Севера и Юга, а столкновение транснационального, радикального, секулярного глобалистского проекта со всеми традиционными культурами и со всеми локальными цивилизациями. И эта борьба проходит не только по границам, разделяющим государства и регионы, но и внутри стран и народов, - не исключаю, что и внутри нашей страны. И здесь происходит столкновение двух миров, двух взглядов на человека и на будущее человеческой цивилизации.
Подлинная альтернатива этому процессу - не «война всех против всех», не погружение мира в пучину хаоса или гражданские столкновения внутри отдельно взятых стран, а новый диалог народов, осуществляемый на принципиально новых основаниях. Это диалог, направленный на восстановление ценностного единства, в рамках которого каждая из цивилизаций, в том числе и наша, русская, могла бы существовать, сохраняя свою идентичность.
По материалам сайта http://www.vrns.ru
2. Формы и методы воздействия на конфликт с целью его предотвращения и мирного урегулирования
1. Особенности конфликтов в конце ХХ - начале ХХI в.
История развития конфликтологической мысли, и научные исследования конфликтов начинаются с XIX века. Все работы можно условно разделить на пять групп по разным основаниям. К первой группе можно отнести работы, раскрывающие общетеоретические проблемы, мировоззренческо-методологические аспекты в исследовании конфликта, рассматриваются различные основания конфликта. Наиболее полно это направление представлено в работах К. Маркса (теория классовой борьбы), Э. Дюркгейма (концепция девиантного поведения и солидарности), Г. Зиммеля (теория органической взаимосвязи процессов ассоциации и диссоциации), М. Вебера, К. Манхейма, Л. Козера (функциональность конфликта), Р. Дарендорфа (теория поляризации интересов), П. Сорокина (теория несовместимости противоположных ценностей), Т. Парсонса (теория социальной напряженности), Н. Смелзера (теория коллективного поведения и инновационного конфликта), Л. Крисберга, К. Боулдинга, П. Бурдье, Р. Арона, Э. Фромма, Э. Берна, А. Рапопорта, Е.Й. Галтунга и других. Ко второй группе можно отнести работы исследователей конфликта в конкретных сферах жизнедеятельности.
В этих работах проводится анализ конфликтов на макроуровне: забастовочные движения, социальная напряженность в обществе, межнациональные, этнические, политические, экономические, экологические, межгосударственные и т.п. конфликты. К третьей группе относятся работы, в которых исследуются конфликты в трудовых коллективах, в производственной сфере, в управлении. Четвертая группа представлена самой многочисленной по количеству литературой зарубежных и отечественных исследователей. Это работы по способам и технологиям управления, разрешения конфликтов, по технологиям переговоров, анализу тупиковых и безвыходных конфликтных ситуаций. Пятая группа представлена исследованиями конфликтов в сфере мировой политики. Конфликты стары, как мир. Они были до подписания Вестфальского мира - времени, принятого за точку рождения системы национальных государств, есть они сейчас. Конфликтные ситуации и споры, по всей вероятности, не исчезнут и в будущем, поскольку, согласно афористичному утверждению одного из исследователей Р. Ли, общество без конфликтов - мертвое общество. Более того, многие авторы, в частности Л. Козер, подчеркивают, что противоречия, лежащие в основе конфликтов, обладают целым рядом позитивных функций: привлекают внимание к проблеме, заставляют искать выходы из сложившейся ситуации, предупреждают стагнацию - и тем самым способствуют мировому развитию.
Действительно, конфликтов вряд ли удастся избежать совсем, другое дело, в какой форме их разрешать - через диалог и поиск взаимоприемлемых решений или вооруженное противостояние. Говоря о конфликтах конца ХХ - начала ХХI в., следует остановиться на двух важнейших вопросах, которые имеют не только теоретическую, но и практическую значимость. 1. Изменился ли характер конфликтов (в чем это проявляется)? 2. Как можно предотвращать и регулировать вооруженные формы конфликтов в современных условиях? Ответы на эти вопросы непосредственно связаны с определением характера современной политической системы и возможностью воздействия на нее. Сразу после окончания холодной войны появились ощущения, что мир находится в преддверии бесконфликтной эры существования. В академических кругах эта позиция наиболее четко выражена Ф. Фукуямой, когда он заявил о конце истории. Она достаточно активно поддерживалась и официальными кругами, например США, несмотря на то, что находившаяся у власти в начале 1990-х годов республиканская администрация была менее склонна, по сравнению с демократами, исповедовать неолиберальные взгляды.
Только на постсоветском пространстве, по оценкам отечественного автора В.Н. Лысенко, в 1990-х годах насчитывалось около 170 конфликтогенных зон, из которых в 30 случаях конфликты протекали в активной форме, а в 10 дело дошло до применения силы. В связи с развитием конфликтов сразу по окончании холодной войны и появления их на территории Европы, которая была относительно спокойным континентом после Второй мировой войны, ряд исследователей стали выдвигать различные теории, связанные с нарастанием конфликтного потенциала в мировой политике. Одним из наиболее ярких представителей этого направления стал С. Хантингтон с его гипотезой о столкновении цивилизаций. Однако во второй половине 1990-х годов количество конфликтов, а также конфликтных точек в мире, по данным СИПРИ, стало уменьшаться. Так, в 1995 г. насчитывалось 30 крупных вооруженных конфликтов в 25 странах мира, в 1999 г. – 27, и то же в 25 точках земного шара, в то время как в 1989 г. их было 36 – в 32 зонах.
Надо заметить, что данные о конфликтах могут различаться в зависимости от источника, поскольку нет четкого критерия того, каким должен быть «уровень насилия» (число убитых и пострадавших в конфликте, его продолжительность, характер отношений между конфликтующими сторонами и т.п.), чтобы происшедшее рассматривалось как конфликт, а не инцидент, криминальные разборки или террористические действия. Например, шведские исследователи М. Солленберг и П. Валленстин определяют крупный вооруженный конфликт как «продолжительное противоборство между вооруженными силами двух или более правительств, или одного правительства и по меньшей мере одной организованной вооруженной группировкой, приводящее в результате военных действий к гибели не менее 1000 человек за время конфликта».
Другие авторы называют цифру в 100 и даже 500 погибших. В целом же, если говорить об общей тенденции в развитии конфликтов на планете, то большинство исследователей соглашаются с тем, что после некоего всплеска количества конфликтов в конце 1980-х - начале 1990-х годов их число пошло на убыль в середине 1990-х, и с конца 1990-х годов продолжает держаться примерно на одном уровне. И тем не менее современные конфликты создают весьма серьезную угрозу человечеству вследствие возможного их расширения в условиях глобализации, развития экологических катастроф (достаточно вспомнить поджог нефтяных скважин в Персидском заливе при нападении Ирака на Кувейт), серьезных гуманитарных последствий, связанных с большим количеством беженцев, пострадавших среди мирного населения и т.п.
Озабоченность вызывает и появление вооруженных конфликтов в Европе – регионе, где вспыхнули две мировые войны, крайне высокая плотность населения, множество химических и других производств, разрушение которых в период вооруженных действий может привести к техногенным катастрофам.
В чем же причины современных конфликтов? Их развитию способствовали различные факторы. 1. Проблемы, связанные с распространением оружия, его бесконтрольным использованием, непростыми отношениями между индустриальными и сырьевыми странами при одновременном усилении их взаимозависимости. 2. Развитие урбанизации и миграцию населения в города, к чему оказались неготовыми многие государства, в частности Африки. 3. Рост национализма и фундаментализма как реакции на развитие процессов глобализации. 4. В период холодной войны глобальное противостояние Востока и Запада до некоторой степени «снимало» конфликты более низкого уровня.
Эти конфликты нередко использовались сверхдержавами в их военно-политическом противостоянии, хотя они старались держать их под контролем, понимая, что в противном случае региональные конфликты могут перерасти в глобальную войну. Поэтому в наиболее опасных случаях лидеры биполярного мира, несмотря на жесткое противостояние между собой, координировали действия по снижению напряженности, с тем чтобы избежать прямого столкновения. Несколько раз такая опасность, например, возникала при развитии арабо-израильского конфликта в период холодной войны. Тогда каждая из сверхдержав оказывала влияние на «своего» союзника, чтобы снизить накал конфликтных отношений.
После распада биполярной структуры региональные и локальные конфликты в значительной степени «зажили своей жизнью». 5. Особо следует выделить перестройку мировой политической системы, ее «отход» от Вестфальской модели, господствовавшей в течение длительного времени. Этот процесс перехода, трансформации связан с узловыми моментами мирового политического развития.
В новых условиях конфликты приобрели качественно иной характер. Во-первых, с мировой арены практически исчезли «классические» межгосударственные конфликты, которые были типичны для расцвета государственно-центристской политической модели мира. Так, по данным исследователей М. Солленберга и П. Валленстина из 94 конфликтов, которые насчитывались в мире за период 1989–1994 гг., только четыре можно считать межгосударственными. В 1999 г. лишь два из 27, по оценкам другого автора ежегодника СИПРИ Т.Б. Сейболта, были межгосударственными.
Вообще, согласно некоторым источникам, количество межгосударственных конфликтов на протяжении довольно длительного периода времени идет на убыль. Впрочем, здесь следует сделать оговорку: речь идет именно о «классических» межгосударственных конфликтах, когда обе стороны признают друг за другом статус государства. Это признается также другими государствами и ведущими международными организациями. В ряде современных конфликтов, направленных на отделение территориального образования и провозглашение нового государства, одна из сторон, заявляя о своей независимости, настаивает именно на межгосударственном характере конфликта, хотя она никем (или почти никем) не признается как государство. Во-вторых, на смену межгосударственным пришли внутренние конфликты, протекающие в рамках одного государства.
Среди них можно выделить три группы:
Конфликты между центральными властями и этнической/религиозной группой (группами);
Между различными этническими или религиозными группами;
Между государством/государствами и неправительственной (террористической) структурой. Все указанные группы конфликтов являются так называемыми конфликтами идентичности, так как связаны с проблемой самоидентификации.
В конце ХХ - начале ХХI в. идентификация строится преимущественно не на государственной основе, как было (человек видел себя гражданином той или иной страны), а на иной, главным образом этнической и религиозной. По мнению американского автора Дж. Л. Расмуссена две трети конфликтов 1993 г. можно определить именно как «конфликты идентичности».
При этом, по замечанию известного американского политического деятеля С. Тэлботта, менее 10% стран современного мира являются этнически гомогенными. Это означает, что только на этнической основе можно ожидать проблемы в более чем 90% государств. Конечно, высказанное суждение - преувеличение, однако проблема национального самоопределения, национальной идентификации остается одной из наиболее существенных. Другой значимый параметр идентификации - религиозный фактор, или, в более широком плане, то, что С. Хантингтон назвал цивилизационным. Он включает, кроме религии, исторические аспекты, культурные традиции и т.п. В целом же изменение функции государства, его невозможность в ряде случаев гарантировать безопасность, а вместе с этим идентификацию личности, в той мере, как было ранее - в период расцвета государственно-центристской модели мира, влечет за собой усиление неопределенности, развитие затяжных конфликтов, которые то затухают, то вспыхивают вновь.
При этом во внутренние конфликты вовлекаются не столько интересы сторон, сколько ценности (религиозные, этнические). По ним достижение компромисса оказывается невозможным. Внутригосударственный характер современных конфликтов часто сопровождается процессом, связанным с тем, что в них вовлекается сразу несколько участников (различные движения, формирования и т.п.) со своими лидерами, структурной организацией. Причем каждый из участников нередко выступает с собственными требованиями. Это крайне затрудняет регулирование конфликта, поскольку предполагает достижение согласия сразу целого ряда лиц и движений. Чем больше зона совпадения интересов, тем больше возможностей поиска взаимоприемлемого решения.
Уменьшение области совпадения интересов по мере увеличения числа сторон. Кроме участников, на конфликтную ситуацию воздействует множество внешних акторов - государственных и негосударственных. К числу последних относятся, например, организации, занятые оказанием гуманитарной помощи, розыском пропавших без вести в процессе конфликта, а также бизнес, средства массовой информации и др. Влияние этих участников на конфликт нередко вносит элемент непредсказуемости в его развитие. Из-за своей многоплановости он приобретает характер «многоголовой гидры» и, уже как следствие, ведет к еще большему ослаблению государственного контроля.
В связи с этим целый ряд исследователей, в частности А. Минк, Р. Каплан, К. Бус, Р. Харвей, стали сравнивать конец ХХ столетия со средневековой раздробленностью, заговорили о «новом средневековье», грядущем «хаосе» и т.п. Согласно таким представлениям, к обычным межгосударственным противоречиям добавляются сегодня еще и обусловленные различиями в культуре, ценностях; общей деградацией поведения и т.п. Государства же оказываются слишком слабыми, чтобы справиться со всеми этими проблемами. Снижение управляемости конфликтами обусловлен и другими процессами, происходящими на уровне государства, в котором вспыхивает конфликт.
Регулярные войска, подготовленные к боевым действиям в межгосударственных конфликтах, оказываются плохо приспособленными и с военной, и с психологической точки зрения (прежде всего по причине проведения военных операций на своей территории) к решению внутренних конфликтов силовыми методами. Армия в таких условиях оказывается нередко деморализованной. В свою очередь общее ослабление государства ведет к ухудшению финансирования регулярных войск, что влечет за собой опасность потери контроля государства уже за собственной армией. Одновременно в ряде случаев происходит ослабление государственного контроля и за происходящими в стране событиями вообще, в результате чего конфликтный регион становится своеобразной «моделью» поведения. Надо сказать, что в условиях внутреннего, особенно затяжного конфликта нередко ослабляется не только контроль над ситуацией со стороны центра, но и внутри самой периферии.
Лидеры различного рода движений часто оказываются не в состоянии поддерживать в течение длительного времени дисциплину среди своих соратников, и полевые командиры выходят из-под контроля, совершая самостоятельные рейды и операции. Вооруженные силы распадаются на несколько отдельных групп, нередко конфликтующих друг с другом. Силы, вовлеченные во внутренние конфликты, часто оказываются настроенными экстремистски, что сопровождается стремлением «идти до конца любой ценой» ради достижения целей за счет ненужных лишений и жертв. Крайнее проявление экстремизма и фанатизма ведет к использованию террористических средств, захвату заложников. Эти феномены последнее время сопровождают конфликты все чаще.
Современные конфликты приобретают и определенную политико-географическую ориентацию. Они возникают в регионах, которые можно отнести, скорее, к развивающимся или находящимся в процессе перехода от авторитарных режимов правления. Даже в экономически развитой Европе конфликты вспыхивали в тех странах, которые оказывались менее развитыми. Если же говорить в целом, то современные вооруженные конфликты сосредоточены прежде всего в странах Африки и Азии. Появление большого числа беженцев - еще один фактор, усложняющий ситуацию в районе конфликта.
Так, в связи с конфликтом Руанду в 1994 г. покинули около 2 млн. человек, которые оказались в Танзании, Заире, Бурунди. Ни одна из этих стран не были в состоянии справиться с потоком беженцев и обеспечить их самым необходимым. Изменение характера современных конфликтов от межгосударственных к внутренним не означает снижения их международной значимости. Напротив, в результате процессов глобализации и тех проблем, которые таят в себе конфликты конца ХХ - начала ХХI в., появления большого числа беженцев в других странах, а также вовлеченности в их урегулирование многих государств и международных организаций, внутри государственные конфликты все отчетливее приобретают международную окраску. Один из важнейших вопросов при анализе конфликтов: почему некоторые из них регулируются мирными средствами, в то время как другие перерастают в вооруженное противостояние? В практическом плане ответ крайне важен.
Однако методологически обнаружение универсальных факторов перерастания конфликтов в вооруженные формы является далеко не простым. Тем не менее исследователи, которые пытаются ответить на этот вопрос, рассматривают обычно две группы факторов: структурные факторы, или, как их чаще называют в конфликтологии, - независимые переменные (структура общества, уровень экономического развития и т.п.); процедурные факторы, или зависимые переменные (политика, проводимая как участниками конфликта, так и третьей стороной; личностные особенности политических деятелей и т.п.). Структурные факторы нередко называют также объективными, а процедурные - субъективными. Здесь прослеживается явная аналогия в политической науке с другими, в частности с анализом проблем демократизации.
В конфликте обычно выделяются несколько фаз. Американские исследователи Л. Прюитт и Дж. Рубин сравнивают жизненный цикл конфликта с развитием сюжета в пьесе из трех действий. В первом определяется суть конфликта; во втором он достигает своего максимума, а затем и пата, или развязки; наконец, в третьем действии происходит спад конфликтных отношений. Предварительные исследования дают основание полагать, что в первой фазе развития конфликта структурные факторы «задают» определенный «порог», являющийся критическим при развитии конфликтных отношений. Наличие этой группы факторов необходимо как для развития конфликта вообще, так и для реализации его вооруженной формы. При этом чем явственнее выражены структурные факторы и больше их «задействовано», тем вероятнее развитие вооруженного конфликта (отсюда в литературе по конфликтам нередко происходит отождествление вооруженной формы развития конфликта с его эскалацией) и все же становится возможное поле деятельности политиков (процедурных факторов). Другими словами, структурные факторы определяют потенциал развития вооруженного конфликта. Весьма сомнительно, чтобы конфликт, и тем более вооруженный, возник «на пустом месте» без объективных причин. На второй (кульминационной) фазе особую роль начинают играть преимущественно процедурные факторы, в частности ориентация политических лидеров на односторонние (конфликтные) или совместные (переговорные) с противоположной стороной действия по преодолению конфликта. Влияние этих факторов (т.е. политических решений относительно переговоров или дальнейшего развития конфликта) довольно ярко проявляется, например, при сравнении кульминационных точек развития конфликтных ситуаций в Чечне и Татарстане, где действия политических лидеров в 1994 г. повлекли за собой в первом случае вооруженное развитие конфликта, а во втором - мирный способ его урегулирования.
Таким образом, в довольно обобщенном виде можно сказать, что при изучении процесса формирования конфликтной ситуации в первую очередь должны быть проанализированы структурные факторы, а при выявлении формы ее разрешения - процедурные. Конфликты конца ХХ - начала ХХI в. характеризуются в целом следующим: внутригосударственным характером; международным звучанием; потерей идентичности; множественностью сторон, включенных в конфликт и его урегулирование; значительной иррациональностью поведения сторон; плохой управляемостью; высокой степенью информационной неопределенности; вовлечением в обсуждение ценностей (религиозных, этнических).
Структура и фазы конфликта
Необходимо отметить, что конфликт, как система, никогда не выступает в "законченной" форме. В любом случае он представляет собой процесс или совокупность процессов развития, предстающих как определенная целостность. При этом в процессе развития может происходить изменение субъектов конфликта, а, следовательно, и характера противоречий, лежащих в основе конфликта.
Изучение конфликта в его последовательно сменяющихся фазах позволяет рассматривать его как единый процесс, обладающий различными, но взаимосвязанными сторонами: исторической (генетической), причинно-следственной и структурно-функциональной.
Фазы развития конфликта - это не абстрактные схемы, а реальные, детерминированные в историческом и социальном планах конкретные состояния конфликта как системы. В зависимости от сущности, содержания и формы того или иного конфликта, конкретных интересов и целей его участников, применяемых средств и возможностей введения новых, вовлечения других или выхода имеющихся участников, индивидуального хода и общих международных условий его развития международный конфликт может проходить через самые различные, в том числе и нестандартные фазы.
По Р. Сетову, существует три важнейшие фазы конфликта: латентная, кризис, война. Выходя из диалектичного понимания конфликта как качественно новой ситуации в международных отношениях, которая возникла из-за количественного нагромождения взаимно направленных враждебных действий, необходимо обозначить его границы в промежутке от возникновения спорной ситуации между двумя участниками международных отношений и связанного с ним противостояния до окончательного урегулирования тем или иным способом.
Конфликт может развиваться в двух основных вариантах, которые условно можно назвать классическим (или конфронтационным) и компромиссным.
Классический вариант развития предусматривает силовое урегулирование, который лежит в основе отношений между враждующими сторонами и характеризуется обострением отношений между ними, близким к максимальному. Такое развитие событий состоит из четырех фаз:
обострение
эскалация
деэскалация
угасание конфликта
В конфликте происходит полный ход событий, от появления разногласий до их решения, включая борьбу между участниками международных отношений, которая в меру включения в неё ресурсов максимально возможного объёма обостряется, а после его достижения постепенно угасает.
Компромиссный вариант, в отличие от предыдущего, не имеет силового характера, поскольку в такой ситуации фаза обострения, достигая значения, близкого к максимального, не развивается в направлении дальнейшей конфронтации, а в точке, в которой ещё возможный компромисс между сторонами, продолжается путём разрядки. Такой вариант урегулирования разногласий между участниками международных отношений предусматривает достижение согласия между ними, в том числе и путём взаимных уступок, которые частично удовлетворили интересы обеих сторон и в идеальном случае обозначает не силовое урегулирование конфликта.
Но в основном разделяют шесть фаз конфликта, которые мы и рассмотрим. А именно:
Первая фаза конфликта - это сформировавшееся на основе определенных объективных и субъективных противоречий принципиальное политическое отношение и соответствующие ему экономические, идеологические, международно-правовые, военно-стратегические, дипломатические отношения по поводу данных противоречий, выраженные в более или менее острой конфликтной форме.
Вторая фаза конфликта - это субъективное определение непосредственными сторонами конфликт своих интересов, целей, стратегии и форм борьбы для разрешения объективных или субъективных противоречий с учетом своего потенциала и возможностей применения мирных и военных средств, использования международных союзов и обязательств, оценки общей внутренней и международной ситуации. На этой фазе сторонами определяется или частично реализуется система взаимных практических действий, носящих характер борьбы сотрудничества, с целью разрешить противоречие в интересах той или иной стороны или на основе компромисса между ними.
Третья фаза конфликта заключается в использовании сторонами достаточно широкого диапазона экономических, политических, идеологических, психологических, моральных, международно-правовых, дипломатических и даже военных средств (не применяя их, однако, в форме прямого вооруженного насилия), вовлечения в той или иной форме в борьбу непосредственно конфликтующими сторонами других государств (индивидуально, через военно-политические союзы, договоры, через ООН) с последующим усложнением системы политических отношений и действий всех прямых и косвенных сторон в данном конфликте.
Четвертая фаза конфликта связана с увеличением борьбы до наиболее острого политического уровня - политического кризиса, который может охватить отношения непосредственных участников, государств данного региона, ряда регионов, крупнейших мировых держав, а в ряде случаев - стать мировым кризисом, что придает конфликту невиданную ранее остроту и содержит прямую угрозу того, что одной или несколькими сторонами будет использована военная сила.
Пятая фаза - это вооруженный конфликт, начинающийся с ограниченного конфликта (ограничения охватывают цели, территории, масштаб и уровень ведения боевых действий, применяемые военные средства, количество союзников и их мировой статус), способного при определенных обстоятельствах развиваться до более высокого уровня вооруженной борьбы с применением современного оружия и возможным вовлечением союзников одной или обеими сторонами. Также следует указать, что если рассматривать эту фазу конфликта в динамике, то в ней можно выделить целый ряд полуфаз, означающих эскалацию военных действий.
Шестая фаза конфликта - это фаза угасания и урегулирования, предполагающая постепенную деэскалацию, т.е. снижение уровня интенсивности, более активное вовлечение дипломатических средств, поиск взаимных компромиссов, переоценку и корректировку национально-государственных интересов. При этом урегулирование конфликта может стать следствием усилий одной или всех сторон конфликта либо начаться вследствие давления со стороны "третьей" стороны, в роли которой может оказаться крупная держава, международная организация.
Недостаточное урегулирование противоречий, которое привело к конфликту, или фиксирование определённого уровня напряженности в отношениях между конфликтующими сторонами в виде принятии ими определённого (modus vivendi) является основой для возможной повторной эскалации конфликта. Собственно такие конфликты имеют затяжной характер, периодично угасая, они снова взрываются с новой силой. Полное прекращение конфликтов возможно только тогда, когда противоречие, которое обусловило его возникновение, в тот или иной способ будет урегулировано.
Таким образом, рассмотренные выше признаки могут быть использованы для первичной идентификации конфликта. Но при этом всегда необходимо учитывать высокую подвижность грани между такими явлениями, как собственно военный конфликт и война. Сущность этих явлений одна и та же, но она имеет различную степень концентрации в каждом из них. Отсюда и известная трудность в различении войны и военного конфликта.
Курсовая работа
Конфликты в современном мире: проблемы и особенности их урегулирования
Студента 1 курса
Специальности "История"
Вступление
3. Причины и основные этапы югославского конфликта. Комплекс мероприятий по его урегулированию
3.1 Развал СРФЮ. Перерастание конфликта на Балканах в вооруженное столкновение
Заключение
Введение
Актуальность темы. По подсчетам институтов, занимающихся вопросами военной истории, со времени окончания второй мировой войны было только двадцать шесть дней абсолютного мира. Анализ конфликтов за эти годы свидетельствует об увеличении количества вооруженных конфликтов, при сложившихся условиях взаимосвязи и взаимозависимости государств и различных регионов, способные к быстрой эскалации, преобразования в крупномасштабные войны со всеми их трагическими последствиями.
Современные конфликты стали одним из ведущих факторов нестабильности на земном шаре. Будучи плохо управляемыми, они имеют тенденцию к разрастанию, подключению все большего числа участников, что создает серьезную угрозу не только тем, кто непосредственно оказался вовлеченным в конфликт, но и всем живущим на земле.
А поэтому, это является свидетельством в пользу того, что следует рассматривать и изучать особенности всех современных форм вооруженной борьбы: от небольших вооруженных столкновений до широкомасштабных вооруженных конфликтов.
Объектом исследования есть конфликты, которые произошли на рубеже ХХ – ХХІ веков. Предметом исследования есть развитие конфликтов и возможности их урегулирования.
Целью исследования является раскрытие сущности вооружено-политического конфликта, выяснение особенностей современных конфликтов и выявление на этой основе эффективных способов их регулирования, а если этого не получится сделать, то локализации и прекращения на более поздних этапах их развития, поэтому задачами работы являются:
Выяснить сущность конфликта, как особенного общественного явления;
Найти основные закономерности возникновения конфликтов на современном этапе развития человечества;
Исследовать основные проблемы и причины распространения конфликтов, как неотъемлемого компонента исторического процесса;
Выявить и изучить главные особенности урегулирования конфликтов;
Степень изученности. Как в зарубежной, так и в отечественной науке наблюдается дефицит системного анализа объекта исследования.
Однако следует отметить, что процессы формирования научных трудов берут свое начало во второй половине ХХ века, несмотря на не иссякающий интерес исследователей разных эпох к проблеме конфликта (к ней обращались такие мыслители прошлого, как Гераклит, Фукидид, Геродот, Тацит, а позже Т.Гоббс, Дж. Локк, Ф.Гегель, К.Маркс и другие).
Сегодня проблема возникновения, а впоследствии и урегулирования конфликтов исследуется как отечественными, так и зарубежными исследователями. Проблемами, связанными с возможностью урегулирования конфликтов занимались такие исследователи: Н. Макиавелли, Г. Спенсер, Р. Дарендорф, Л. Козер, Г. Зиммель, К. Боулдинг, Л. Крисберг, Т. Гобс, Э. Карр, Т. Шеллинг, Б. Коппитер, М. Емерсон, Н. Хейсен, Дж. Рубин, Г. Морозов, П. Цыганков, Д. Алгульян, Б. Бажанов, В. Барановський, А. Торкунов, Г. Дробот, Д. Фельдман, О. Хлопов, И. Арцибасов, А. Егоров, М. Лебедева, И. Доронина, П. Кременюк и др.
Также рассмотрена выходящая периодическая литература, а именно: "Журнал по разрешению конфликтов" (The Journal of Conflict Resolution), "Международный журнал по урегулированию конфликтов" (The International Journal of Conflict Management), "Журнал по исследованию проблем мира" (Journal of Peace Research), "Журнал по переговорам" (Negotiation Journal), "Международные переговоры: журнал практических и теоретических исследований" (International Negotiation: A Journal of Theory and Practice).
1. Общая характеристика и определение конфликтов
1.1 Понятие конфликта как особенного общественного явления
Несмотря на важнейшую значимость научного исследования конфликтов, понятие "конфликт" - не получило должного определения, а потому используется неоднозначно.
Для обозначения международных трений и разногласий, понятие "конфликт" (фр. - "conflit") использовалось активно, но постепенно было вытеснено английским "dispute" (рус. - "спор", фр. - "differend"). Начиная с принятия в 1945 г. Устава ООН, в международном праве для обозначения международных трений и противоречий употребляются понятия "международный спор" и "ситуация".
Конфликт как проблема практической политики, получил наибольшее развитие с началом "холодной войны". Его методологической основой является общая теория конфликта. Предметом общей теории конфликта является изучение причин возникновения, условий протекания и разрешения конфликта.
Наиболее распространенным определением этого понятия в западной науки можно считать следующую формулировку, данную американцем Я. Озером: "Социальный конфликт - борьба за ценности и претензии на определенный статус, власть и ресурсы, борьба, в которой целями противников являются нейтрализация нанесение ущерба или уничтожение соперника".
Но прежде чем выяснять особенности конфликтов, следует выяснить что, собственно, подразумевается под термином "конфликт". Различные исследователи, трактуют этот термин по-разному, и на сегодняшний день нет главенствующей трактовки этого понятия. Рассмотрим же основные идеи.
В своих трудах, Кеннет Боулдинг утверждает, что конфликт это "ситуация соперничества, в которой стороны признают несовместимость позиций, и каждая сторона пытается занять положение, несовместимое с тем, которое пытается занять другая". Отсюда, очевидно, конфликт необходимо определять как явление, которое происходит между появлением противостояния в отношениях сторон и его окончательным урегулированием.
Напротив, с точки зрения Джона Бертона, "конфликт носит в основном субъективный характер... Конфликт, который как будто затрагивает "объективные" расхождения интересов, может быть преобразован в конфликт, имеющий позитивный результат для той и другой сторон, при условии такого "переосмысления" ими восприятия друг друга, которое позволит им сотрудничать на функциональной основе совместного использования оспариваемого ресурса".
Как утверждает Р. Касте, конфликт - это ситуация "состояния очень серьёзного ухудшения (либо обострения) отношений между участниками международной жизни, которые с целью решения между ними спора угрожают один другому применением вооруженных сил или непосредственно их применяют" как категорию социального поведения для обозначения ситуации существования двух или нескольких сторон в борьбе за что-либо, что не может принадлежать им всем одновременно.
Обобщая все вышеуказанные теории конфликта, следует указать, что конфликт рассматривается как особое политическое отношение двух или нескольких сторон - народов, государств или группы государств, - концентрированно воспроизводящее в форме косвенного или непосредственного столкновения экономические, социально-классовые, политические, территориальные, национальные, религиозные или иные по природе и характеру интересы.
Разумеется, конфликт - это особое, а не рутинное политическое отношение, поскольку оно означает и объективно и субъективно разрешение разнородных конкретных противоречий и порождаемых ими проблем в конфликтной форме, и в ходе своего развития может порождать международные кризисы и вооруженную борьбу государств.
Часто конфликт отождествляют с кризисом. Однако соотношение конфликта и кризиса - это соотношение целого и части. Кризис лишь одна из возможных фаз конфликта. Он может возникнуть как закономерное следствие развития конфликта, как его фаза, означающая, что конфликт дошел в своем развитии до той грани, которая отделяет его от вооруженного столкновения, от войны. На этапе кризиса неимоверно возрастает роль субъективного фактора, поскольку, как правило, весьма ответственные политические решения принимаются узкой группой лиц в условиях острого дефицита времени.
Однако кризис - это совсем не обязательная и неизбежная фаза конфликта. Его течение достаточно длительное время может оставаться латентным, не порождая непосредственно кризисных ситуаций. Вместе с тем кризис - далеко не всегда завершающая фаза конфликта даже при отсутствии прямых перспектив перерастания его в вооруженную борьбу. Тот или иной кризис усилиями политиков может быть преодолен, а международный конфликт в целом способен при этом сохраняться и возвращаться к скрытому состоянию. Но при определенных обстоятельствах этот конфликт может вновь достигать фазы кризиса, при этом кризисы могут следовать с определенной цикличностью.
Наибольшей остроты и крайне опасной формы конфликт достигает в фазе вооруженной борьбы. Но вооруженный конфликт - это также не единственная и не неизбежная фаза конфликта. Он представляет собой высшую фазу конфликта, следствие непримиримых противоречий в интересах субъектов системы международных отношений.
Употребление понятия "конфликт" должно следовать следующему определению: конфликт - это ситуация предельного обострения противоречий в области международных отношений, проявляющихся в поведении его участников - субъектов международного отношений в форме активного противодействия или столкновения (вооруженного или невооруженного); если в основе конфликта не лежит противоречие, он проявляется только в конфликтном поведении сторон.
1.2 Структура и фазы конфликта
Необходимо отметить, что конфликт, как система, никогда не выступает в "законченной" форме. В любом случае он представляет собой процесс или совокупность процессов развития, предстающих как определенная целостность. При этом в процессе развития может происходить изменение субъектов конфликта, а, следовательно, и характера противоречий, лежащих в основе конфликта.
Изучение конфликта в его последовательно сменяющихся фазах позволяет рассматривать его как единый процесс, обладающий различными, но взаимосвязанными сторонами: исторической (генетической), причинно-следственной и структурно-функциональной.
Фазы развития конфликта - это не абстрактные схемы, а реальные, детерминированные в историческом и социальном планах конкретные состояния конфликта как системы. В зависимости от сущности, содержания и формы того или иного конфликта, конкретных интересов и целей его участников, применяемых средств и возможностей введения новых, вовлечения других или выхода имеющихся участников, индивидуального хода и общих международных условий его развития международный конфликт может проходить через самые различные, в том числе и нестандартные фазы.
По Р. Сетову, существует три важнейшие фазы конфликта: латентная, кризис, война. Выходя из диалектичного понимания конфликта как качественно новой ситуации в международных отношениях, которая возникла из-за количественного нагромождения взаимно направленных враждебных действий, необходимо обозначить его границы в промежутке от возникновения спорной ситуации между двумя участниками международных отношений и связанного с ним противостояния до окончательного урегулирования тем или иным способом.
Конфликт может развиваться в двух основных вариантах, которые условно можно назвать классическим (или конфронтационным) и компромиссным.
Классический вариант развития предусматривает силовое урегулирование, который лежит в основе отношений между враждующими сторонами и характеризуется обострением отношений между ними, близким к максимальному. Такое развитие событий состоит из четырех фаз:
Обострение
Эскалация
Деэскалация
Угасание конфликта
В конфликте происходит полный ход событий, от появления разногласий до их решения, включая борьбу между участниками международных отношений, которая в меру включения в неё ресурсов максимально возможного объёма обостряется, а после его достижения постепенно угасает.
Компромиссный вариант, в отличие от предыдущего, не имеет силового характера, поскольку в такой ситуации фаза обострения, достигая значения, близкого к максимального, не развивается в направлении дальнейшей конфронтации, а в точке, в которой ещё возможный компромисс между сторонами, продолжается путём разрядки. Такой вариант урегулирования разногласий между участниками международных отношений предусматривает достижение согласия между ними, в том числе и путём взаимных уступок, которые частично удовлетворили интересы обеих сторон и в идеальном случае обозначает не силовое урегулирование конфликта.
Но в основном разделяют шесть фаз конфликта, которые мы и рассмотрим. А именно:
Первая фаза конфликта - это сформировавшееся на основе определенных объективных и субъективных противоречий принципиальное политическое отношение и соответствующие ему экономические, идеологические, международно-правовые, военно-стратегические, дипломатические отношения по поводу данных противоречий, выраженные в более или менее острой конфликтной форме.
Вторая фаза конфликта - это субъективное определение непосредственными сторонами конфликт своих интересов, целей, стратегии и форм борьбы для разрешения объективных или субъективных противоречий с учетом своего потенциала и возможностей применения мирных и военных средств, использования международных союзов и обязательств, оценки общей внутренней и международной ситуации. На этой фазе сторонами определяется или частично реализуется система взаимных практических действий, носящих характер борьбы сотрудничества, с целью разрешить противоречие в интересах той или иной стороны или на основе компромисса между ними.
Третья фаза конфликта заключается в использовании сторонами достаточно широкого диапазона экономических, политических, идеологических, психологических, моральных, международно-правовых, дипломатических и даже военных средств (не применяя их, однако, в форме прямого вооруженного насилия), вовлечения в той или иной форме в борьбу непосредственно конфликтующими сторонами других государств (индивидуально, через военно-политические союзы, договоры, через ООН) с последующим усложнением системы политических отношений и действий всех прямых и косвенных сторон в данном конфликте.
Четвертая фаза конфликта связана с увеличением борьбы до наиболее острого политического уровня - политического кризиса, который может охватить отношения непосредственных участников, государств данного региона, ряда регионов, крупнейших мировых держав, вовлечь ООН, а в ряде случаев - стать мировым кризисом, что придает конфликту невиданную ранее остроту и содержит прямую угрозу того, что одной или несколькими сторонами будет использована военная сила.
Пятая фаза - это вооруженный конфликт, начинающийся с ограниченного конфликта (ограничения охватывают цели, территории, масштаб и уровень ведения боевых действий, применяемые военные средства, количество союзников и их мировой статус), способного при определенных обстоятельствах развиваться до более высокого уровня вооруженной борьбы с применением современного оружия и возможным вовлечением союзников одной или обеими сторонами. Также следует указать, что если рассматривать эту фазу конфликта в динамике, то в ней можно выделить целый ряд полуфаз, означающих эскалацию военных действий.
Шестая фаза конфликта - это фаза угасания и урегулирования, предполагающая постепенную деэскалацию, т.е. снижение уровня интенсивности, более активное вовлечение дипломатических средств, поиск взаимных компромиссов, переоценку и корректировку национально-государственных интересов. При этом урегулирование конфликта может стать следствием усилий одной или всех сторон конфликта либо начаться вследствие давления со стороны "третьей" стороны, в роли которой может оказаться крупная держава, международная организация либо мировое сообщество в лице ООН.
Недостаточное урегулирование противоречий, которое привело к конфликту, или фиксирование определённого уровня напряженности в отношениях между конфликтующими сторонами в виде принятии ими определённого (modus vivendi) является основой для возможной повторной эскалации конфликта. Собственно такие конфликты имеют затяжной характер, периодично угасая, они снова взрываются с новой силой. Полное прекращение конфликтов возможно только тогда, когда противоречие, которое обусловило его возникновение, в тот или иной способ будет урегулировано.
Таким образом, рассмотренные выше признаки могут быть использованы для первичной идентификации конфликта. Но при этом всегда необходимо учитывать высокую подвижность грани между такими явлениями, как собственно военный конфликт и война. Сущность этих явлений одна и та же, но она имеет различную степень концентрации в каждом из них. Отсюда и известная трудность в различении войны и военного конфликта.
2. Возможности и проблемы урегулирования конфликтов
2.1 Средства воздействия третьей стороны на конфликт
С древних времен для урегулирования конфликтов привлекалась третья сторона, которая вставала между конфликтующими с тем, чтобы найти мирное решение. Обычно в качестве третьей стороны выступали наиболее уважаемые в обществе люди. Они судили, кто прав, а кто виноват, и выносили решения о том, на каких условиях должен заключаться мир.
Понятие "третья сторона" является широким и собирательным, включающим в себя обычно такие термины, как "посредник", "наблюдатель за ходом переговорного процесса", "арбитр". Под "третьей стороной" может пониматься также любое лицо, не имеющее статуса посредника или наблюдателя. Третья сторона может вмешиваться в конфликт самостоятельно, а может - по просьбе конфликтующих сторон. Ее воздействие на участников конфликта очень разнообразно.
Внешнее вмешательство третьей стороны в конфликт получило обозначение "интервенции". Интервенции могут быть формальными и неформальными. Наиболее известная форма интервенции – посредничество (mediation).
Под посредничеством, как правило, понимается осуществляемое со стороны третьих государств или международных организаций по их собственной инициативе или по просьбе находящихся в конфликте сторон содействие мирному урегулированию спора, состоящее в ведении посредником на базе его предложений прямых переговоров со спорящими с целью мирного разрешения разногласия.
Цель посредничества, как и других мирных средств разрешения споров, состоит в урегулировании разногласий на взаимоприемлемой для сторон основе. При этом, как показывает практика, задачей посредничества является не столько окончательное разрешение всех спорных вопросов, сколько общее примирение спорящих, выработка основы соглашения, приемлемого для обеих сторон. Поэтому основными формами содействия третьих государств урегулированию спора при посредничестве должны быть их предложения, советы, рекомендации, а не обязательные для сторон решения.
Другое распространенное средство воздействия третьей стороны на участников конфликтов, имеющее ограничительный и принудительный характер, - это введение санкций. Санкции довольно широко используются в международной практике. Они вводятся государствами по собственной инициативе или по решению международных организаций. Введение санкций предусматривается Уставом ООН в случае угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии со стороны какого-либо государства.
Существуют разные виды санкций. Торговые санкции касаются импорта и экспорта товаров и технологий, причем особое внимание уделяется тем из них, которые могут использоваться в военных целях. Финансовые санкции включают в себя запрет или ограничения на предоставление займов, кредитов, а также на инвестиции. Используются и политические санкции, например исключение агрессора из международных организаций, разрыв с ним дипломатических отношений.
Санкции порой оказывают и противоположный эффект: порождают не сплоченность, а поляризацию общества, что в свою очередь ведет к трудно прогнозируемым последствиям.
Так, в поляризованном обществе возможна активизация экстремистских сил, а в результате конфликт будет только обостряться. Конечно, не исключен и другой вариант развития событий, когда, например, вследствие поляризации в обществе возобладают силы, ориентированные на компромисс, - тогда вероятность мирного урегулирования конфликта значительно возрастет.
Еще одна проблема связана с тем, что введение санкций наносит ущерб не только экономике той страны, в отношении которой они вводятся, но и экономике государства, вводящего санкции. Так бывает особенно в тех случаях, если до введения санкций у этих стран были тесные экономические и торговые связи и отношения.
Таким образом, использование санкций осложняется тем, что они действуют не избирательно, а на все общество в целом, причем преимущественно страдают наименее защищенные слои населения. Для снижения этого негативного эффекта иногда используют частичные санкции, которые не затрагивают, например, сферу поставок продовольствия или медикаментов.
Урегулирование конфликта мирным путём, при участии только лишь самих субъектов конфликта, является крайне редким явлением. Для помощи в этом нелёгком труде часто приходит на помощь третья сторона.
В арсенале средств воздействия третьей стороны на участников конфликта не исключаются и различные средства ограничения и принуждения, например отказ в предоставлении экономической помощи в случае продолжения конфликта, применение санкций к участникам; и все эти средства интенсивно используются в ситуациях вооруженного конфликта, как правило, на первой (стабилизационной) фазе урегулирования, с целью побудить участников прекратить насилие. Принудительные и ограничительные меры иногда применяются и после достижения договоренности с тем, чтобы обеспечить выполнение соглашений (например, в зоне конфликта остаются миротворческие силы).
2.2 Силовой метод урегулирования конфликта
Из всех средств ограничения и принуждения, которые используются третьей стороной, наиболее распространенными являются операции по поддержанию мира (термин введен Генеральной Ассамблеей ООН в феврале 1965 г.), а также применение санкций в отношении конфликтующих сторон.
При использовании операций по поддержанию мира часто вводятся миротворческие силы. Это происходит тогда, когда конфликт достигает стадии вооруженной борьбы. Главная цель миротворческих сил - разъединение противоборствующих сторон, недопущение вооруженных столкновений между ними, контроль над вооруженными действиями противоборствующих сторон.
В качестве миротворческих сил могут использоваться как воинские подразделения отдельных государств (например, во второй половине 80-х годов индийские войска находились в качестве миротворцев в Шри-Ланке, а в начале 90-х годов 14-я российская армия - в Приднестровье) или группы государств (по решению Организации африканского единства межафриканские силы участвовали в урегулировании конфликта в Чаде в начале 80-х годов), так и вооруженные формирования Организации Объединенных Наций (вооруженные силы ООН неоднократно использовались в различных конфликтных точках).
Одновременно с введением миротворческих сил часто создается буферная зона с тем, чтобы развести вооруженные формирования противоборствующих сторон. Практикуется также введение зон, свободных от полетов (non-flying zones), для того чтобы предотвратить нанесение бомбовых ударов с воздуха одним из участников конфликта. войск третьей стороны помогает урегулированию конфликтов прежде всего благодаря тому, что военные действия противоборствующих сторон становятся затруднительными.
Но следует учитывать и то, что возможности миротворческих сил ограничены: они, например, не имеют права преследовать нападающего, а использовать оружие могут только в целях самообороны. В этих условиях они могут оказаться своеобразной мишенью для противоборствующих группировок, как это неоднократно происходило в различных регионах. Более того, были случаи захвата представителей миротворческих сил в качестве заложников. Так, в первой половине 1995 г. в Боснийском конфликте в заложниках оказались и российские военнослужащие, находившиеся там с миротворческой миссией.
В то же время предоставление больших прав миротворческим силам, в том числе придание им полицейских функций, разрешение наносить удары с воздуха и т.п., чревато опасностью расширения конфликта и вовлечения третьей стороны во внутренние проблемы, а также возможными жертвами среди мирного населения, разделением мнений внутри третьей стороны относительно правомерности предпринятых шагов.
Так, весьма неоднозначно были оценены действия НАТО, санкционированные ООН и связанные с нанесением бомбовых ударов в Боснии по позициям боснийских сербов в середине 90-х годов.
Пребывание войск на территории другого государства также представляет собой проблему. Она не всегда просто решается в рамках национальных законодательств стран, которые предоставляют свои вооруженные силы. Кроме того, участие войск в урегулировании конфликтов за рубежом часто негативно воспринимается общественным мнением, особенно если среди миротворческих сил появляются жертвы.
И, наконец, самая большая проблема заключается в том, что введение миротворческих сил не заменяет политического урегулирования конфликта. Этот акт может рассматриваться только как временный - на период поиска мирного решения.
2.3 Переговорный процесс при конфликте. Функции переговоров
Переговоры имеют столь же древнюю историю, как войны и посредничество. Этот инструмент использовался для их урегулирования еще задолго до появления правовых процедур. Переговоры - универсальное средство человеческого общения, которое позволяет находить согласие там, где интересы не совпадают, мнения или взгляды расходятся. Однако то, как ведутся переговоры - их технология, долгое время оставалось без внимания. Только во второй половине XX столетия переговоры стали объектом широкого научного анализа, что обусловлено, прежде всего, той ролью, которую приобрели переговоры в современном мире.
Следует указать, переговорный процесс в условиях конфликтных отношений довольно сложен и имеет свою специфику. Несвоевременное или неверное решение, принятое на переговорах, часто влечет за собой продолжение или даже усиление конфликта со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Переговоры в условиях конфликта, как правило, оказываются более успешными, если:
Предмет конфликта четко определен;
Стороны избегают использовать угрозы;
Отношения сторон не сводятся только к урегулированию конфликта, а охватывают многие области, где интересы сторон совпадают;
Обсуждается не слишком большое количество вопросов (одни вопросы не "тормозят" решение других);
Одной из важнейших особенностей переговоров является то, что интересы сторон частично совпадают, а частично расходятся. При полном расхождении интересов наблюдаются конкуренция, состязание, противоборство, конфронтация и, наконец, войны, хотя, как отмечал Т. Шеллинг, даже в войнах у сторон имеется общность интересов. Однако из наличия общих и противоположных интересов сторон следует, что в случае крайне выраженного силового диктата переговоры перестают быть переговорами, уступая место конфликту.
Направленность на совместное решение проблемы одновременно является главной функцией переговоров. Это то главное, ради чего ведутся переговоры. Реализация данной функции зависит от степени заинтересованности участников в поиске взаимоприемлемого решения.
Однако почти на всех переговорах по урегулированию конфликта наряду с главной присутствуют и другие функции. Использование переговоров с различными функциональными целями возможно в силу того, что переговоры всегда включаются в более широкий политический контекст и служат инструментом при решении целого комплекса внутриполитических и внешнеполитических задач. Соответственно, они могут выполнять различные функции.
Наиболее существенными и часто реализуемыми функциями переговоров, кроме главной, являются следующие:
Информационно-коммуникативная функция присутствует практически на всех переговорах. Исключение могут составлять переговоры, которые предпринимаются для "отвода глаз", но и в них коммуникационный аспект, хотя и в минимальной степени, все же присутствует. Иногда бывает, что участники конфликта, вступая в переговоры, заинтересованы лишь в обмене взглядами, точками зрения. Такие переговоры часто рассматриваются сторонами как предварительные, а их функция - как чисто информационная. Результаты предварительных переговоров служат основой для выработки позиций и предложений к их следующему, основному раунду.
Следующая важная функция переговоров - регуляционная. С ее помощью осуществляются регуляция, контроль и координация действий участников. Она предусматривает также детализацию более общих решений с целью их конкретного воплощения. Переговоры, на которых реализуется эта функция, выполняют роль своеобразной "настройки" отношений сторон. Если переговоры многосторонние, то на них происходит "коллективное управление взаимозависимостью" - регуляция отношений участников.
Пропагандистская функция переговоров заключается в активном воздействии на общественное мнение с целью разъяснения широким кругам своей позиции, оправдания собственных действий, предъявления претензий противоположной стороне, обвинения противника в противоправных действиях, привлечения на свою сторону новых союзников и т.п. В этом смысле она может рассматриваться в качестве производной или сопутствующей такой функции, как решение собственных внутриполитических или внешнеполитических проблем.
Говоря о пропагандистской функции и об открытости переговоров, не следует сбрасывать со счетов и положительные моменты, благодаря которым стороны оказываются под контролем общественного мнения.
Переговоры могут выполнять и маскировочную функцию. Эта роль отводится, прежде всего, переговорам с целью достижения побочных эффектов для "отвода глаз", когда на самом деле договоренности вовсе не нужны, поскольку решаются совсем иные задачи - заключить соглашения с целью выиграть время, "усыпить" внимание противника, а при начале вооруженных действий - оказаться в более выгодном положении. В этом случае их функциональное предназначение оказывается далеким от основного - совместного решения проблем, и переговоры перестают быть переговорами по своей сути. Конфликтующие стороны мало заинтересованы в совместном решении проблемы, поскольку решают совсем иные задачи. Примером могут быть мирные переговоры между Россией и Францией в Тильзите в 1807 г., вызвавшие недовольство и в той, и в другой стране. Однако и Александр 1, и Наполеон рассматривали Тильзитские соглашения не более чем "брак по расчету", временную передышку перед неизбежным военным столкновением.
Особенно явно "маскировочная" функция реализуется в том случае, если одна из конфликтующих сторон стремится успокоить оппонента, выиграть время, создать видимость стремления к сотрудничеству. В целом же следует отметить, что любые переговоры многофункциональны и предполагают одновременную реализацию нескольких функций. Но при этом функция поиска совместною решения должна оставаться приоритетной. Иначе переговоры становятся, по выражению М. М. Лебедевой, "квазипереговорами".
Вообщем же, оценивая функции переговоров с точки зрения их конструктивности или деструктивности, следует иметь в виду весь политический контекст и то, насколько целесообразно совместное решение проблемы (например, нужны ли переговоры с террористами, захватившими заложников, или лучше предпринять действия по их освобождению). Подход к переговорам как к совместному с партнером поиску решения проблемы основывается на иных принципах и подразумевает в значительной степени открытость обоих участников, формирование отношений диалога. Именно в ходе диалога участники стараются по-иному увидеть проблему и ее решение. В диалоге между сторонами формируются новые отношения, ориентированные в перспективе на сотрудничество и взаимопонимание.
Таким образом, мы можем определить, что в различные исторические периоды, на различных переговорах те или иные функции использовались и продолжают использоваться в большей или меньшей степени. В условиях конфликтных отношений, стороны особо склонны к тому, чтобы интенсивнее использовать иные, отличные от основной переговорные функции.
3. Причины и основные этапы югославского конфликта и комплекс мероприятий по его урегулированию
3.1 Развал СРФЮ. Перерастание конфликта на бакланах в вооруженное столкновение
Югославский кризис имеет глубокую предысторию и сложный противоречивый характер. В его основе лежали внутренние (экономические, политические и этнорелигиозные) причины, приведшие к распаду федеративного государства. На примере того, что на месте единой Югославии образовалось шесть небольших самостоятельных государств, воюющих друг с другом не столько из-за религиозно-этнических приоритетов, сколько из-за взаимных территориальных претензий. Можно сказать, что причины военного конфликта в Югославии кроются в системе тех противоречий, которые возникли сравнительно давно и обострились в момент принятия решения на проведение радикальных реформ в экономике, политике, социальной и духовной сфере.
На протяжении долгого противоречия между Югославскими республиками, которые перешли в стадию активного кризиса, две республики Словения и Хорватия первые заявили о выходе из СФРЮ и провозгласили свою независимость. Если в Словении конфликт приобрел характер противостояния Федерального центра и словенской республиканской элиты, то в Хорватии противостояние стало развиваться по этническому принципу. В районах с преобладающим сербским населением начались этнические чистки, заставившие сербское население создавать отряды самообороны. В этот конфликт были втянуты подразделения югославской армии, которые пытались разъединить враждующие стороны. Хорватское руководство отказало сербскому населению в элементарных правах, более того, развязав зверскую войну против сербов, хорваты сознательно провоцировали ответную реакцию федеральных войск, а затем становились в позу жертв сербских войск. Цель подобных действий сводилась к привлечению внимания международной общественности, развязыванию информационной войны против сербов и стремлению вызывать давление международного сообщества на Сербию для скорейшего признания независимости Хорватии.
Первоначально страны ЕС и США руководствуясь принципом нерушимости границ, не признали новые государственные объединения, справедливо оценив их заявления, как сепаратизм. Однако с ускорением процесса распада СССР, с исчезновением сдерживающего фактора в лице Советского Союза на Западе стали склоняться к мысли поддержать "некоммунистические республики" Югославии. Развал ОВД, СЭВ, распад Советского Союза кардинально изменил расстановку сил в мире. Для стран Западной Европы (прежде всего только недавно объединенной Германии) и США появилась возможность значительно расширить зону своих геополитических интересов в стратегически важном регионе.
Можно отметить тот факт, что в период "закипания балканского котла" международное сообщество не имело единого мнения. Ситуация на Балканах усугублялась наложением национальных, политических и конфессиональных фактора. Процесс развала СФРЮ в 1991 г. начался с отмены автономного статуса Косово в рамках Сербии. Кроме того, инициаторами развала Югославии среди прочих выступали хорваты, при этом особый упор был сделан на католицизм как свидетельство европейской идентичности хорватов, противопоставившим себя остальным православным и мусульманским народам Югославии.
В результате длительного процесса перерастания конфликта в вооруженное столкновение сторон и невозможности мирового сообщества примирить стороны и найти решение кризиса мирным путем, кризис перерос в военные действия НАТО против СФРЮ. Решение о начале войны было принято 21 марта 1999 г. Советом НАТО – региональной военно-политической организацией 19 государств Европы и Северной Америки. Решение о начале операции принял Генеральный секретарь НАТО Солана в соответствии с предоставленными ему Советом НАТО полномочиями. В качестве основания для применения силы названо стремление предотвратить гуманитарную катастрофу, вызванную политикой геноцида, проводимой властями СФРЮ по отношению к этническим албанцам. Операция НАТО "Союзническая сила" была начата 24 марта 1999 г., приостановлена 10 июня, окончание операции – 20 июля 1999 г. Продолжительность активной фазы войны – 78 суток. Участвовали: с одной стороны – военно-политический блок НАТО, представленный 14 государствами, предоставившими вооруженные силы или территорию, воздушное пространство предоставили нейтральные страны Албания, Болгария, Македония, Румыния; с другой стороны - регулярная армия СФРЮ, полиция и нерегулярные вооруженные формирования. Третья сторона – Освободительная армия Косово, представляющая собой совокупность полувоенных формирований, использующих базы вне территории СФРЮ. Характер военных действий представлял собой воздушно-морскую наступательную операцию со стороны НАТО и воздушно-оборонительную операцию со стороны СФРЮ. Силами НАТО было завоевано господство в воздухе, бомбовыми и ракетными ударами по военным и промышленным объектам было уничтожено: нефтеперерабатывающая промышленность и запасы топлива, нарушены коммуникации, разрушены системы связи, выведены временно из строя энергетические системы, разрушены объекты промышленности и инфраструктуры страны. Потери среди гражданского населения составили 1,2 тысяч убитых и 5 тысяч раненых, около 860 тысяч беженцев.
НАТО путем проведения воздушно-морской наступательной операции добилась капитуляции руководства СФРЮ в Косово на условиях, выдвинутых НАТО еще до войны. Войска СФРЮ выведены из Косово. Однако основная декларируемая политическая задача – предотвращение гуманитарной катастрофы в провинции – не только не выполнена, но и обострилась за счет роста потока беженцев-сербов после выхода армии СФРЮ и ввода миротворческих сил. НАТО инициировало решение СБ ООН миротворческую операцию по возвращению албанских беженцев в Косово, что позволило закрепить победу в войне и вывести Косово и Метохию из-под власти правительства СФРЮ. В миротворческом контингенте участвуют около 50 тысяч военнослужащих под руководством НАТО.
3.2 Миротворческая операция в Боснии и Герцеговине
В связи с вооруженными конфликтами, как в Европе, так и за ее пределами, НАТО в 90-х годах прошлого столетия стала разрабатывать планы своего участия в миротворческих действиях.
В этой связи возникла, по мнению натовских аналитиков, необходимость дополнения действующей системы коллективной безопасности новыми элементами для "миротворческой деятельности". При этом можно сформулировать основные задачи следующим образом:
Своевременное предотвращение конфликтов и разрешение их до начала их интенсивной эскалации;
Вооруженное вмешательство для принуждения к миру и восстановления безопасности.
Отсюда, можно сделать вывод, что для выполнения этих задач НАТО необходимы, естественно, более совершенный механизм принятия решений, гибкая структура командования вооруженных сил. Поэтому в натовских стратегических концепциях 1991 и 1999 годов указывается, что "НАТО в сотрудничестве с другими организациями будет содействовать предотвращению конфликтов, а в случае возникновения кризиса - участвовать в его эффективном урегулировании в соответствии с международным правом, обеспечивать в зависимости от конкретного случая и в соответствии с собственными процедурами проведение миротворческих и иных операций под эгидой Совета Безопасности ООН или под ответственность ОБСЕ, в том числе путем предоставления своих ресурсов и опыта".
Итак, ряд резолюций Совета безопасности ООН уже давали полномочия НАТО регулировать нарастающий конфликт в Боснии и Герцеговине, но так, что этого почти никто не понимал. Чаще всего НАТО скрывалась за словами "региональные организации или союзы".
Для урегулирования возникшего конфликта в республике БиГ, НАТО предпринимала ряд действий.
Для начала, по просьбе Генерального секретаря начались осуществляться полеты самолетов НАТО для соблюдения режима "бесполетной зоны". Затем министры иностранных дел стран НАТО приняли решение о предоставлении защиты с воздуха силам обороны ООН на территории Югославии. И самолеты НАТО начали проводить учебные полеты в целях обеспечения непосредственной авиационной поддержки.
Таким образом, конфликт на территории Югославии достаточно быстро и серьезно стал обсуждаться в НАТО, причем с явно военных позиций. Надо заметить, что не все официальные деятели Запада разделяли подобный подход. В качестве примера можно процитировать министра иностранных дел Англии Дугласа Хэрда: "НАТО - это не международная полиция. И это, конечно, не армия крестоносцев, которые выступают, чтобы с помощью силы разъединить воюющие войска или водрузить знамя на чужой земле. В ее полномочия не входит навязывать странам, не являющимся элементами НАТО, западные представления о ценностях или улаживать споры между другими государствами. Но НАТО не может заменить ООН, СБСЕ или Европейское Сообщество. Прежде всего, ООН с ее особым правовым авторитетом не имеет себе равных"
Однако, несмотря на подобную позицию ряда европейских стран, НАТО приступила к выполнению резолюции Совета безопасности ООН по Югославии: корабли, входящие в постоянное соединение ВМС НАТО в Средиземноморье, осуществляли в Адриатическом море контроль за соблюдением торгового эмбарго против Сербии и Черногории и эмбарго на поставку оружия всем бывшим республикам; был начат также контроль над воздушной зоной Боснии и Герцеговины, запрещенной для полетов.
После того, как сербы отказались принять план Вэнса-Оуэна, Организация Североатлантического договора "в рамках регионального договора" приступила к проведению предварительных исследований о возможности участия военных групп НАТО "в планировании широкой оперативной концепции осуществления мирного плана для Боснии и Герцеговины", или осуществления задач военного характера в рамках мирного плана. НАТО предложила провести наземную разведку и связанные с этим мероприятия, а также "рассмотреть возможность предоставления ключевой штабной структуры, предусматривающей возможность задействования других стран, которые могут направить свои воинские контингенты".
НАТО придерживалась таких основных целей, как проведение военно-морских операций, военно-воздушных операций и операций по защите персонала ООН.
В дальнейшем НАТО от своего имени предъявила ультиматум боснийским сербам отвести в десятидневный срок на 20 км от Сараево свое тяжелое вооружение. Ультиматум был подкреплен угрозой нанести удар с воздуха. После объявления ультиматума Генеральный секретарь ООН Б. Бутрос-Гали на встрече представителей стран НАТО в Брюсселе поддержал идею нанесения воздушных ударов по боснийским сербам. "Я наделен полномочиями, - заявил он, - нажать кнопку" относительно воздушной поддержки... но для воздушных ударов необходимо будет решение Совета НАТО...". После вхождения воздушно-десантного батальона в Гравицу (пригород Сараево), позволило разделить сербов и мусульман, что и обеспечило прекращение огня. После чего было подписано мирное соглашение по Боснии, где Североатлантический союз создал и возглавил Многонациональные силы по выполнению соглашения (ИФОР), перед которыми была поставлена задача выполнения военных аспектов соглашения. В соответствии с приложением 1А Мирного соглашения операцию "Джойнт Индевор" возглавляла НАТО под политическим управлением и контролем Североатлантического совета. По условиям Мирного соглашения, все тяжелое оружие и войска должны были быть собраны в районах расквартирования или демобилизованы. Это было последним этапом выполнения военного приложения к Мирному соглашению.
Чуть позже в Париже был утвержден двухлетний план укрепления мира, который затем был доработан в Лондоне под эгидой Совета по выполнению мирного соглашения, созданного в соответствии с Мирным соглашением. На основе этого плана и изучения в НАТО вариантов обеспечения безопасности, министры иностранных дел и министры обороны стран НАТО приняли решение о том, что для обеспечения стабильности требуется присутствие в стране меньших по численности военных сил, - Сил стабилизации (СФОР) - которые должна была организовать НАТО. СФОР получили аналогичную ИФОР установку на жесткое применение силы, если это потребуется для выполнения поставленной задачи и самообороны.
3.3 Миротворческая операция в Косово
Зоной другой миротворческой операции сил НАТО было Косово, когда возник конфликт между воинскими формированиями Сербии и Силами косовских албанцев. НАТО под предлогом гуманитарной интервенции вмешалась в конфликт и начала воздушную кампанию против Союзной Республики Югославии, которая продолжалась 77 дней. Тогда Совет Безопасности ООН принял резолюцию о принципах политического разрешения кризиса в Косово и направлении туда под эгидой ООН международного военного контингента, состоящего в основном из сил НАТО и под единым натовским командованием.
Главная политическая цель, которую преследовало НАТО в косовском конфликте, заключалась в свержении авторитарного режима С. Милошевича. Прекращение гуманитарной катастрофы в Косово тоже входило в задачи НАТО, но не было главной целью его интервенции в Югославию.
Военная стратегия НАТО была построена на осуществлении воздушной наступательной операции с тем, чтобы максимально использовать свое полное доминирование в воздухе и нанести максимальный вред югославской армии, прежде мобильным комплексам ПВО и сухопутным войскам. Удар, нанесенный экономической и транспортной инфраструктуре Югославии, имел целью создать определенный психологический эффект, направленный на как можно быстрее капитуляции С. Милошевича.
В середине февраля руководство НАТО приняло оперативный план 10/413 (кодовое название "Совместная дозор") по развертыванию военного миротворческого контингента НАТО и стран-партнеров Альянса в Косово.
Следует заметить, что такая заранее спланированная подготовка НАТО к военному вмешательству в Косово независимо от результатов мирных переговоров наворачивает на мысль о том, что урегулирование конфликта в стране не было для НАТО основной целью. После Боснии НАТО стало откровенно претендовать на роль главной организации по вопросам безопасности в Европе.
24 марта 1999 в ответ на отказ официального Белграда согласиться с условиями урегулирования ситуации в Косово военно-воздушные силы НАТО начали бомбардировки территории Югославии. Воздушная операция сил НАТО (операция "Союзная сила") была очередным вариантом реализации стратегии контролируемой эскалации. Она предусматривала повреждения жизненно важных для обороны и жизнедеятельности страны объектов. Военная стратегия Белграда в войне с силами НАТО, оборонный бюджет которого в 300 раз превышал югославский, была рассчитана на ведение массовой патриотической войны. Учитывая полное господство сил НАТО в воздушном пространстве, С. Милошевич пытался сохранить основные силы своей армии для сухопутной фазы войны, максимально розсредоточив их по территории Косово и других районов Югославии.
Однако, одновременно с развертыванием боевых действий югославской армией сербские силы безопасности и отряды сербских добровольцев начали вводить широкомасштабные этнические чистки с тем, чтобы если не изменить этнический баланс в крае в пользу сербов, то по крайней мере значительно уменьшить демографическую преимущество албанцев. В результате боевых действий и этнических чисток количество беженцев из Косово достигло 850 тыс. человек, из которых около 390 тыс. перешло в Македонию, 226 тыс. - в Албанию, 40 тыс. - в Черногорию. Несмотря на это, последствия натовских бомбардировок заставили С. Милошевича пойти на уступки. С июня 1999 при посредничестве президента Финляндии специального посланника ЕС М. Ахтисаари и специального посланника РФ В. Черномырдина после многодневных политических дебатов президент СФРЮ С. Милошевич согласился подписать "Документ о достижении мира". Им предусматривалось размещение в Косово международных военных контингентов под объединенным командованием НАТО и эгидой ООН, создание временной администрации края и предоставление ему широкой автономии в составе СФРЮ. Так завершился четвертый период развития косовского конфликта. После принятия 10 июня 1999 СБ ООН резолюции № 1244 стадия эскалации Косовского конфликта изменилась стадией деэскалации В резолюции содержалось требование немедленного прекращения боевых действий и репрессий со стороны СФРЮ в Косово поэтапного вывода всех военных, полицейских и военизированных формирований СФРЮ с территории края. 20 июня 1999 последние части югославской армии покинули Косово. Также следует указать очевидный факт - СФРЮ в политической и военном плане потерпела поражение. Потери от вооруженного противостояния с НАТО оказались довольно значительными. Страна оказалась в международной изоляции. Официальный Белград практически утратил политический, военный и экономический контроль над Косово, отдав его дальнейшую судьбу и будущее территориальной целостности своей страны в руки НАТО и ООН.
Стал совершенно очевидным тот факт, что эффективность работы международных механизмов урегулирования военных конфликтов поставлена под сомнение. Прежде всего, существенно изменилось содержание деятельности ООН. Данная организация стала сдавать позиции, менять свою миротворческую роль, уступая часть своих функций НАТО. Это радикально меняет всю систему европейской и мировой безопасности.
Югославскую проблему нельзя было решить мирным путем, потому что: во-первых, не было взаимного согласия и трудно было рассчитывать на мирный путь; во-вторых, право наций на самоопределение признавалось за всеми республиками, входившими в Югославию, в то время как сербы даже в местах компактного проживания этого права лишались; в-третьих, право Югославской Федерации на территориальную целостность отвергалось, в то же время право отделившихся республик было оправдано и защищено международным сообществом; в-четвертых, международное сообщество и ряд стран (таких как США и особенно Германия) открыто заняли позиции одной стороны и тем самым стимулировали противоречия и вражду; в-пятых, во время конфликта было ясно видно, кто на чьей стороне выступает.
Таким образом, Практические меры, принятые мировым сообществом в бывшей Югославии, не ликвидировали (они лишь на время задавили конфликт) причины войны. Вмешательство НАТО на время устранило проблему противоречий между Белградом и косовскими албанцами, но вызвало новое противоречие: между Освободительной Армией Косово и силами КФОР.
Заключение
Озабоченность мирового сообщества ростом числа конфликтов в мире обусловлена как многочисленностью жертв и огромным материальным ущербом, наносимым последствиями, так и тем, что благодаря развитию новейших технологий, имеющих двойное назначение, деятельности средств массовой информации и глобальных компьютерных сетей, крайней коммерциализации в сфере т.н. масс культуры, где культивируются насилие и жестокость, у все большего числа людей появляется возможность получить, а затем и использовать информацию о создании самых изощренных средств уничтожения и способах их применения. Не застрахованы от вспышек терроризма ни высокоразвитые, ни отстающие в экономическом и социальном развитии страны с различными политическими режимами и государственным устройством.
В период завершения "холодной войны" горизонты международного сотрудничества казались безоблачными. Главное на тот момент международное противоречие - между коммунизмом и либерализмом - уходило в прошлое, правительства и народы устали от бремени вооружений. Если не "вечный мир", то, по крайней мере, длительный период затишья на тех участках международных отношений, где все еще оставались нерешенные конфликты, не выглядел слишком уж большой фантазией.
Следовательно, можно было представить дело так, будто в мышлении человечества произошел крупный этический сдвиг. Кроме того, свое слово сказала и взаимозависимость, начавшая играть все большую роль не только и не столько в отношениях между партнерами и союзниками, но и в отношениях между противниками. Так, советский продовольственный баланс не сходился без поставок продовольствия из стран Запада; энергетический баланс в странах Запада (по приемлемым ценам) не сходился без поставок энергоресурсов из СССР, а советский бюджет не мог состояться без нефтедолларов. Целая совокупность соображений, причем и гуманитарного и прагматического характера, предопределила разделяемый главными участниками международных отношений - великими державами, ООН, региональными группировками - вывод о желательности мирного политического урегулирования конфликтов, а также управления ими.
Интернациональный характер жизни людей, новые средства связи и информации, новые виды вооружений резко снижают значимость государственных границ и иных средств защиты от конфликтов. Возрастает многообразие террористической деятельности, которая все больше увязывается с национальными, религиозными, этническими конфликтами, сепаратистскими и освободительными движениями. Появилось немало новых регионов, где террористическая угроза стала особенно масштабной и опасной. На территории бывшего СССР в условиях обострения социальных, политических, межнациональных и религиозных противоречий и конфликтов, разгула преступности и коррупции, внешнего вмешательства в дела большинства стран СНГ пышным цветов расцвел постсоветский терроризм. Таким образом, тема международных конфликтов является на сегодняшний день актуальной и занимает важное место в системе современных международных отношений. Так, во-первых, зная природу международных конфликтов, историю их возникновения, фазы и виды можно спрогнозировать возникновение новых конфликтов. Во-вторых, анализируя современные международные конфликты можно рассматривать и исследовать влияние политических сил разных стран на международной арене. В-третьих, знание специфики конфликтологии помогает лучше проанализировать теорию международных отношений. Следует рассматривать и изучать особенности всех современных конфликтов – от самых незначительных вооруженных столкновений до широкомасштабных локальных конфликтов, так как это даёт нам возможность избегания в будущем, либо найти решения в современных международных конфликтных ситуациях.
Использованные источники и литература
Международно-правовые акты:
1. Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949г., касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов 1977г. // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. М., 1990г.
2. Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 1907г. // Действующее международное право. / Сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Т. 2.
3. Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, 1980г. // Ведомости СССР, 1984г.№3.
4. Международное право в избранных документах т. II - Ст. 6 Гаагской конвенции о мирном решении международных столкновений 1907 г. - М., 1957. - C.202 - 248.
5. Международное право. Ведение боевых действий. Сборник Гаагских конвенций и иных соглашений. МККК, М., 1995 г
6. Международное право. Ведение боевых действий. Сборник Гаагских конвенций и иных соглашений. МККК, М., 1995 г
7. Протокол о запрещении или ограничении применения мин-ловушек и других устройств с поправками, внесенными 3 мая 1996г. (Протокол II с поправками, внесенными 3 мая 1996г.), прилагаемый к Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения // Московский журнал международного права. – 1997г. №1. Стр. 200 – 216.
Основная литература:
8. Арцибасов И.Н. Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия. - М.,1998. – С.151 – 164.
9. Багинян К. А. Международные санкции по Уставам Лиги Наций и Организации Объединенных Наций и практика их применения. - М.: 1948. - С.34 - 58.
10. Бертон Дж. Конфликт и коммуникации. Использование контролируемой коммуникации в международных отношениях. – М.,1999. – С.134 - 144.
11. Боулдинг К. Теория конфликта. – Л.,2006. – С.25 - 35.
12. Василенко В. А. Международно-правовые санкции. - К.,1982. - C.67 – 78.
13. Волков В. Новый мировой порядок" и балканский кризис 90-х годов: Распад ялтинско-постдамской системы международных отношений. – М.,2002. – С.23 – 45.
14. Гуськова Е.Ю. История Югославского кризиса (1990-2000). – М.,2001. – С.28 – 40.
15. Гуськова Е.Ю. Вооруженные конфликты на территории бывшей Югославии. – М.,1999. – С.22 – 43.
16. Деханов С.А. Право и сила в международных отношениях // Московский журнал международного права. - М.,2003. – С.38 – 48.
17. Лебедева М.М. "Политическое урегулирование конфликтов". - М.,1999. - С.67 – 87.
18. Лебедева М.М., Хрусталев М. Основные тенденции в зарубежных исследованиях международных переговоров. – М.,1989. – С.107 – 111.
19. Левин Д.Б. Принципы мирного разрешения международных споров. – М., 1977. – С.34 – 56.
20. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. - М.,2002. - С.404 – 407.
21. Луков В. Б. Современные дипломатические переговоры: проблемы раз-вития. Год 1987. – М.,1988. – С. 117 – 127.
22. Михеев Ю. Я. Применение принудительных мер по Уставу ООН. - М.,1967. - С. 200 – 206.
23. Морозов Г. Миротворчество и принуждение к миру. – М.,1999. – С.58 – 68.
24. Мурадян А.А. Самая благородная наука. Об основных понятиях международно-политической теории. – М.,1990. – 58 – 67.
25. Нергеш Я. Поле битвы - стол переговоров/Пер, с венгер. – М.,1989. – С.77 – 88.
26. Никольсон Г. Дипломатия. М.,1941. – С.45 – 67.
27. Ниренберг Дж. - Маэстро переговоров. М.,1996. – С.86 –94.
28. Нитце П. - Прогулка в лесу. – М.,1989. – С.119 – 134.
29. Полторак А.И. Вооруженные конфликты и международное право. – М., 2000. – C.66 – 78.
30. Пугачев В.П. Введение в политологию. 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1996 (гл. 20 "Политические конфликты") – С.54 - 66.
31. Сетов Р.А. Введение в теорию международных отношений. – М.2001. – С.186 – 199.
32. Степанов Е.И. Конфликтология переходного периода: Методологические, теоретические, технологические проблемы. – М.,1996. С.56 – 88.
33. Удалое В. Баланс сил и баланс интересов. – М.,1990. – С.16–25.
34. Ушаков Н.А. Правовое регулирование использования силы в международных отношениях. - М.,1997. – С.103 – 135.
35. Фишер Р. Подготовка к переговорам. – М.,1996. – С.90 – 120.
36. Ходжсон Дж. Переговоры на равных. - Мн.,1998. - C.250 – 257.
37. Цыганков П.А. Теория Международных Отношений. - М., 2004. - С.407 – 409.
38. Шагалов В.А. Проблема урегулирования региональных конфликтов в постбиполярную эпоху и участие российских военнослужащих в миротворческих операциях. – М.,1998. – С.69 – 82.
Совместные издания:
39. Международное право. /Под ред. Ю.М. Колосова, В.И. Кузнецова. М. 1996. – С. 209 –237.
40. Международные конфликты современности. /Под ред. В. И. Гантмана. М.,1983. С.230 – 246.
41. О процессе международных переговоров (опыт зарубежных исследо-ваний). /Отв. редакторы Р.Г. Богданов, В.А. Кременюк. М.,1989. С.350 – 368.
42. Современные буржуазные теории международных отношений: критический анализ. /Под ред. В.И. Гантмана. М.,1976. С.123 – 145.
Статьи в периодических изданиях:
43. Война в Югославии. //Особая папка НГ № 2, 1999г. - С.12.
44. Заявление Совета по внешней и оборонной политике о войне НАТО против Югославии //Независимая Газета 16.04.99г. – С.5.
45. Кременюк В.А. На пути урегулирования конфликтов//США: экономика, политика, идеология. 1990. № 12. С. 47-52.
46. Кременюк В.А. Проблемы переговоров в отношениях двух держав// США: экономика, политика, идеология. 1991. № 3. С.43-51.
47. Лебедева М.М. Трудный путь урегулирования конфликтов. //Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология. 1996. № 2. С. 54-59.
48. Романов В.А. Североатлантический союз: Договор и организация в меняющемся мире//Московский журнал международного права. 1992. №1. – С.111 – 120.
49. Рубин Дж., Колб Д. Психологические подходы к процессам международных переговоров/Психологический журнал. 1990. № 2. С.63-73.
50. Симич П. Дейтонский процесс: сербский взгляд // МЭ и МО. 1998. – С.91
51. Ясносокирский Ю.А. Миротворчество: Некоторые концептуальные аспекты политического урегулирования конфликтов и кризисных ситуаций // Московский журнал международного права. 1998. №3. С.46
Макрорегионы современного мира
В данной статье представлена классификация стран мира по макрогеографическим регионам и континентам (Африка, Америка, Азия, Европа, Океания), применяемая для целей статистики в Организации Объединённых Наций (ООН) в соответствии с документом «Стандартные коды стран или районов для использования в статистике», разработанным Секретариатом ООН.
Группировка стран по макрорегионам ООН используется в том числе в Общероссийском классификаторе стран мира, входящем в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) в Российской Федерации.
· Восточная Азия
· Западная Азия
· Юго-Восточная Азия
· Южная часть Центральной Азии
· Восточная Африка
· Западная Африка
· Северная Африка
· Центральная Африка
· Южная часть Африки
· Восточная Европа
· Северная Европа
· Южная Европа
·Океания
· Океания (Австралия и Новая Зеландия)
· Меланезия
· Микронезия
· Полинезия
·Северная и Южная Америка
· Карибский бассейн
· Северная Америка
· Центральная Америка
· Южная Америка
Региональные конфликты современного мира
Региональные конфликты – такие конфликты, которые возникают на основе противоречий, складывающихся между отдельными государствами, их коалициями или отдельными региональными субъектами социального взаимодействия внутри государства, они охватывают значительные географические и социальные пространства.
Особенности региональных конфликтов:
1. Они непосредственно связаны с глобальными. С одной сторон, они выступают, как одна их форм назревающих глобальных конфликтов. С другой стороны, они могут ускорить процесс созревания глобальных конфликтов;
2. Поскольку в основе региональных конфликтов лежат экономические, политические, религиозные и идеологические противоречия, постольку они проявляются в форме национально-этнических и религиозных столкновений. Они носят затяжной характер и оказывают непосредственное воздействие на всю систему международных отношений;
3. Региональные конфликты отличаются составом субъектов (административно-территориальные образования, этнические группы, государства или коалиции). Основную роль среди субъектов играют политические, экономические и национальные элиты;
4. Региональные конфликты отличаются зонами распространения. Они охватывают большие географические пространства (регионы) и значительные массы людей;
5. Региональные конфликты отличаются динамикой. Так, формирование образа конфликтной ситуации направляется элитами и происходит с активным использованием СМИ, а иногда – средств и методов информационной войны. Открытое конфликтное взаимодействие может протекать в формах войны, вооруженного конфликта, экономических санкций, идеологического противоборства.
Основными причинами региональных конфликтов являются 1) несовпадение административно-политических границ с этническими; 2) территориальные притязания; 3) религиозная. Наибольшую опасность для международного мира представляют вооружённые конфликты (наиболее проблемный регион – Африка), а также одними из самых известных конфликтов является «тройной» кризис на Ближнем Востоке, Балканская проблема и проблема Западной Сахары.
Турецко-курдский конфликт - вооружённый конфликт между правительством Турции и бойцами Рабочей партии Курдистана, ведущими борьбу за создание курдской автономии в составе Турции, продолжающийся с 1984 года до настоящего времени.
На начало XXI века курды остаются крупнейшим из народов без собственной государственности. Севрский мирный договор между Турцией и Антантой (1920) предусматривал создание независимого Курдистана. Однако этот договор так и не вступил в силу и был аннулирован после подписания Лозаннского договора (1923). В 1920-1930-е годы курды несколько раз безуспешно восставали против турецких властей.
Югоосетинский конфликт (Грузи́но-югоосети́нский конфли́кт) - этнополитический конфликтв Грузиимежду центральным руководством Грузии и Республикой Южная Осетия(с конца 1980-х гг.по настоящее время). Обострение осетино-грузинских отношений было вызвано резкой активизацией национальных движений в последние годы существования СССРи стремлением малых народов к повышению своего статуса и образованию независимого государства (развитием сепаратизмав Южной Осетии, с точки зрения грузинских властей). Развитию конфликта способствовало ослабление государственной власти и последовавшийраспад СССР.
Арабо-израильский конфликт - противостояние между рядом арабских стран, а также арабскими военизированными радикальными группировками, поддерживаемыми частью коренного арабского населенияподконтрольных (оккупированных) Израилем палестинских территорий, с одной стороны, и сионистским движением, а затем и Государством Израиль, с другой. Хотя Государство Израиль было создано только в 1948 году, фактически история конфликта охватывает около столетия, начиная с конца XIX века, когда было создано политическое сионистское движение, положившее начало борьбе евреевза собственное государство.
В период холодной войны сложно было представить, что небольшие югославские провинции Босния и Герцеговина или Косово могут привлечь внимание мирового сообщества и потребовать коллективных действий ведущих держав для разрешения возникшего в них конфликта. США и СССР стремились не допустить эскалации региональных конфликтов в сферах своего влияния и интересов, понимая, что это неизбежно приведет к столкновению двух супердержав. Окончание «холодной войны» и распад биполярной системы международных отношений привели к настоящему взрыву локальных и региональных конфликтов, к их эскалации.
Межгосударственные конфликты уступили место региональным, которые стали главной угрозой международной безопасности. Так, согласно данным Международного Института по исследованиям мира в Стокгольме, в 2005 году впервые ни один из существовавших конфликтов не был определен как межгосударственный. Таким образом, в новых условиях региональные конфликты приобрели новые характеристики и особенности, выявление которых и является целью данного эссе.
Большинство современных региональных конфликтов являются конфликтами, в основе которых лежит религиозная, этническая или языковая принадлежность. Исследователь М.М.Лебедева приводит другой термин – конфликты идентичности, которая строится преимущественно на этнической, религиозной и культурно-исторической основе. Достижение компромисса в таких конфликтах представляется практически невозможным, поскольку в их основе лежат не столько интересы сторон, сколько ценности.
Отсюда вытекает еще одна характеристика региональных конфликтов – затяжной характер. Американский исследователь Дэн Смит (Dan Smith) приводит такие данные: по состоянию на 1999 год 66% существовавших конфликтов имели продолжительность более 5 лет, а 30% конфликтов – более 20 лет. Причинами затяжного характера конфликта часто являются возобновление боевых действий после заключения перемирия из-за неспособности воюющих сторон прийти к соглашению в процессе выработки условий мирного соглашения или вследствие разочарованности последовавшими после его заключения преобразованиями; образование радикальной группировки внутри воюющей стороны, не желающей идти на компромисс, целью которой является «война до победного конца» и др. Нельзя не упомянуть психологическую составляющую: при затяжной войне у противоборствующих сторон формируется определенный тип ментальности, в основе которого лежит желание отомстить (за свою семью, народ и т.д).
Участие множества акторов – как внешних, так и внутренних – также является особенностью региональных конфликтов. Если раньше регулярные войска были основными участниками конфликтных действий, то сегодня главная роль принадлежит народному ополчению, полевым командирам, неформальным военизированным группировкам и др. Упомянутые внешние акторы конфликтов – международные организации, средства массовой информации – также оказывают влияние на развитие конфликта своими действиями (или, как в случае с Руандой – бездействием). Наличие множества акторов делает региональные конфликты плохо управляемыми и непредсказуемыми в своем развитии.
Современные региональные конфликты приобретают и определенную политико-географическую направленность. Они возникают в регионах, которые относятся к развивающимся или находящимся в процессе перехода от авторитарных режимов правления к демократическим. Согласно исследованиям, проведенным Центром международного развития и управления конфликтами Университета штата Мэрилэнд, в 77% всех региональных конфликтов, произошедших после окончания «холодной войны», участником была по меньшей мере одна страна, которая классифицируется как неразвитая или развивающаяся.
Еще одной характеристикой региональных конфликтов является локализованность. Большинство конфликтов являются географически замкнутыми, т. е не выходящими за пределы установленных конфликтом границ. В качестве примера можно привести конфликт в Демократической республике Конго – длившее на протяжении десятилетий насилие происходило в основном на востоке страны.
Высокая степень насилия также присуща современным региональным конфликтам. Враждующие стороны не руководствуются «Законами ведения войны» согласно Женевским конвенциям, что приводит к физическому устранению противника. Отчасти это связано с уже упоминавшейся борьбой за ценности, компромисс по которым не является возможным, а также самими участниками конфликтов (полевые командиры, военизированные группировки), которым присущи определенные методы ведения борьбы.
И, наконец, последней характеристикой региональных конфликтов является влияние процессов глобализации на их возникновение. Нередко причиной региональных конфликтов становится борьба за контроль нефтяных или водных источников (Ближний Восток) или месторождений полезных ископаемых (алмазные месторождения в Африке), обеспечение безопасности газо- и нефтепроводов.и т.д.
Таким образом, на рубеже 20-21 вв. региональные конфликты характеризуются комплексом взаимозависимых особенностей, а именно борьбой за ценности (религиозные, культурные, этнические и др.), наличием множества внешних и внутренних акторов. Региональные конфликты часто являются затяжными по своему характеру, возникают в регионах с преобладанием развивающихся стран, являются локализованным в пределах определенной территории. Высокая степень насилия и борьба за обладание ресурсами также являются характерными особенностями современных региональных конфликтов.
ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ СОВРЕМЕННОСТИ.
ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................... 3
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ФЕНОМЕН МЕЖДУНАРОДНОГО КОНФЛИКТА 6
1.1 Проблема научного определения международного конфликта.......... 6
1.2 Структура и функции конфликта.......................................................... 9
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ ПОСТ-БИПОЛЯРНОГО ПЕРИОДА........................................................................ 14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................. 21
ЛИТЕРАТУРА.............................................................................................. 23
ВВЕДЕНИЕ
На рубеже XX и XXI веков произошли фундаментальные изменения в сфере международной безопасности. Мировое сообщество встретилось с принципиально новыми вызовами и угрозами. Во многих регионах мира наблюдается межгосударственное соперничество, которое грозит вспышкой локальных войн и военных конфликтов, которые большей частью могут иметь форму вооруженного противостояния. В работе рассматриваются основные особенности локальных войн и военных конфликтов в современных условиях.
Глобальное геополитическое, экономическое, социокультурное взаимодействие на современном этапе характеризуется «силовой доминантой». События в районе Персидского залива, а также в Югославии и Афганистане, последние события на Ближнем Востоке (Египет, Ливия, Сирия) свидетельствуют, что однополярный мир стал даже опаснее, чем двухполюсный во времена «холодной войны». Наличие значительной военной силы и демонстрация решимости ее использования в одностороннем порядке в любом районе земного шара рассматривается как необходимое условие защиты интересов национальной безопасности США и распространение американского влияния в глобальном масштабе. В результате распада такой супердержавы, как СССР, международные отношения стали в «определенной степени безальтернативными».
Все государства мира, планируя свои действия на международной арене, должны учитывать теперь американский внешнеполитической курс. Отличительным признаком постбиполярной системы международных отношений стал рост напряжения, вызванный единоличным лидерством США в условиях глобальной взаимозависимости.
Формирование качественно новой системы международных отношений в условиях глобализации углубляет старые и создает новые проблемы и угрозы в сфере международной безопасности. Все больше стран вовлекается в локальные войны и военные конфликты. Существуют серьезные основания полагать, что новая мировая война в случае ее возникновения будет происходить в другой форме, чем предыдущие: с глобального биполярного столкновения она превратится в перманентные вооруженные конфликты, охватывающие весь мир.
Историки подсчитали, что за последние 5,5 тысячи лет на Земле произошло 15,5 тысячи войн и военных конфликтов (в среднем 3 войны в год). За 15 лет, с конца XIX века до Первой мировой войны, было зарегистрировано 36 войн и военных конфликтов (в среднем 2,4 в год). За 21 год между двумя мировыми войнами произошло 80 войн (4 в год). С 1945 по 1990 год произошло 300 войн (в среднем 7,5 - 8 в год). А за последние 12 лет произошло около 100 войн и военных конфликтов (10 в год).
Исследованию локальных войн и военных конфликтов в контексте глобальных изменений посвящено немало научных работ как отечественных, так и зарубежных авторов.
Учитывая актуальность проблемы, целью нашей работы является проанализировать и раскрыть основные особенности локальных войн и военных конфликтов в современных условиях.
За последние полтора десятилетия во всех локальных войнах и военных конфликтах решающим фактором было не военное уничтожение противника, а его политическая изоляция и мощнейшее дипломатическое давление на его руководство.
Если в прошлом в борьбе за раздел мира главную роль играла военная составляющая мощи государств, то в условиях глобализации наблюдается тенденция к расширению сфер влияния невоенными средствами. Речь идет о стратегии «непрямых действий». Она предполагает достижение победы без ведения (по возможности) вооруженной борьбы в обычном понимании и характеризуется, прежде всего, комплексным использованием методов экономического и информационного давления на противника в сочетании с операциями спецслужб, военными угрозами и демонстрациями военной мощи. В связи с этим появился новый, но уже довольно распространенный термин - информационно-психологическое противоборство. Его сущность заключается в том, что основные усилия в борьбе с врагом направлены не на физическое уничтожение средств вооруженной борьбы, а, прежде всего, на ликвидацию информационного ресурса органов и систем управления государства, существенное ослабление военного потенциала противника.
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ФЕНОМЕН МЕЖДУНАРОДНОГО КОНФЛИКТА
1.1. Проблема научного определения международного конфликта
Несмотря на незримое присутствие конфликта во всех сферах общественной жизни, его точное и недвусмысленное определение остается предметом научного поиска. Отчасти это связано с многогранностью конфликта и разнообразием его форм. Другим и, возможно, более важным обстоятельством, что мешает общему пониманию этого феномена, является принципиальное различие между теми ролями и функциями, которыми конфликт наделяется в рамках различных подходов к изучению различных социальных процессов...
Под субъектами конфликта обычно понимают его непосредственных участников. Разъединяют их собственные системы интересов и ценностей, в данном случае - несовместимые; в то время как объект конфликта или совокупность таких объектов, объединяет их в единое целое, создавая систему конфликта. Субъекты конфликта добавляют к объективным противоречиям субъективные, превращая их в движущую силу конфликта.
Система существующих противоречий, превратившись в систему интересов субъектов конфликта, требует от них осознания несовместимости целей и невозможности одновременного полного их достижения. С момента такого осознания начинается конфликт, по крайней мере, в его латентной фазе. После этого формулируются стратегии действий субъектов конфликта.
Конфликт - ситуация, при которой участники отношений сочетаются единственным объектом, в отношении него существует осознанная каждым несовместимость их интересов; и действуют на основе такого осознания.
Этим определением подчеркивается дуалистическая природа конфликта: он существует как в сознании, так и в действиях участников. Эти две сферы протекания конфликта взаимосвязаны, а управление конфликтом является наиболее эффективным при условии распространения на обе. Кроме того, конфликт является динамическим, а не статическим явлением, которое проходит через ряд фаз развития, на каждой из которых ему становится характерным новые черты. Наконец, всеобщность приведенного определения позволяет охватить конфликт как обобщающее понятие, открыв перспективы если не создания, то хотя бы обсуждения общей теории конфликта.
Конфликтология имеет дело с различными типами международных конфликтов, среди которых наиболее универсальным является политический конфликт. Единого и общепризнанного определения феномена политического конфликта не существует, что, однако, не означает отсутствия некоторых общих элементов в понимании этого явления. Общим является признание существующего стойкого противостояния, ситуации напряжения, столкновение сторон, целей и интересов, а для политического конфликта характерно вынесение указанных противоречий в политический, властный уровень. Политический конфликт является социальным явлением, структурированным процессом, своеобразным средством решения важных для его участников политических вопросов, субъективно оцененных ими в качестве взаимоисключающих интересов.
Международный конфликт можно рассматривать:
4) как возможность или ситуацию;
5) как структуру;
6) как событие или процесс.
Приведенный список толкований конфликта свидетельствует о комплексности и системности этого явления, ведь для полного понимания конфликта необходимо его изучить во всех вышеупомянутых проявлениях.
Международным конфликтом является конфликт, который возникает при участии двух или нескольких международных игроков и имеет международно-политические последствия; объект конфликта при этом выходит за пределы юрисдикции любого из его участников.
Международному конфликту присущи следующие особенности:
– участниками конфликта могут быть как государства, так и другие международные игроки, способные преследовать политические цели;
– международный конфликт может начинаться как внутренний, но его эскалация способна выводить объект конфликта за пределы юрисдикции его участников, вследствие чего конфликт приводит к международным последствиям;
– развитие международного конфликта происходит в специфических условиях анархии международной системы, которая уменьшает эффективность международно-правовых инструментов решения;
– международный конфликт может принимать различные формы, и часто понятия, ассоциирующиеся с конфликтом, обозначают лишь один из возможных путей его решения (например, ультиматум).
Международным кризисом называется специфическая фаза международного конфликта, которая характеризуется 1) высокой ценностью интересов сторон, 2) коротким временем для принятия решений, 3) высоким уровнем стратегической неопределенности.
Часто кризис отождествляется с использованием военной силы в конфликте, хотя непосредственной связи между ними нет. Однако кризис, уменьшая имеющееся количество информации у сторон относительно действий и намерений друг друга, а также увеличивая антагонизм в конфликте, увеличивает также и вероятность перехода конфликта из латентной фазы к фазе открытого противостояния с использованием военной силы.
Если использование военной силы происходит в ходе кризиса, оно нередко носит спонтанный, неорганизованный характер и может включать мобилизацию регулярных войск, партизанских сил или освободительных армий; внедрение экономических или военных санкций; частичную оккупацию или нарушение статуса демилитаризованных зон; пограничные инциденты. В отличие от войны, использование военной силы в ходе международного кризиса не является систематическим. Однако, если принять во внимание давление временных ограничений, в условиях которого действуют участники кризиса, несистематическое использования военной силы способно спровоцировать полномасштабную войну.
1.2 Структура и функции конфликта
В современной политической науке существует целая система методов - методологических подходов - в основу которых положено выявление общих и стабильных черт принципиально изменчивых явлений.
Методологический подход называется системным, а среди различных методов в его рамках для наших задач оптимальным является структурный метод. Он позволяет выявить структуру международного конфликта и оценить его значение.
Международный конфликт, даже в сравнительно простой форме двустороннего противостояния суверенных государств, является сложной социальной системой. Всем социальным системам присуще высокая степень изменчивости, динамичности и открытости. Это означает, что такие системы активно обмениваются информацией со средой и обновляются под влиянием этого обмена. В этих условиях важной задачей является установление постоянных параметров, присущих международным конфликтам в целом, и на основе которых можно конфликт исследовать...
К важнейшим из них традиционно относят субъекты (стороны) конфликта, его объект или объектное поле (иногда и предмет), отношения между субъектами и участников (третьи стороны). Кроме того, необходимо также установить его рамки (временные, географические, системные) и среду, в которой конфликт протекает. После осуществления этих операций станет понятна имеющейся структура конфликта и его место в мире других социальных отношений.
Круг субъектов международного конфликта в основном состоит из суверенных государств. В современной теории международных отношений продолжаются масштабные дискуссии по изменению роли государства в международных отношениях.
Монополия государства на участие в международных конфликтах разрушается. Сегодня инициаторами и сторонами конфликтов, подпадающих под приведенное выше определение, могут быть, помимо суверенных государств, национально-освободительные движения, террористические группировки, сепаратистские силы, транснациональные корпорации и, вполне возможно, отдельные индивиды.
В целом справедлив вывод о том, что привычный субъект международного конфликта - суверенное государство - уступает место многочисленным конкурентам, которые, вследствие ослабления и эрозии государственного суверенитета, приобретают способность к формулировке собственных политических целей и потенциала для их достижения. Это затрудняет как диагностику, так и типологию международных конфликтов, а также разнообразит средства управления ими.
Субъекты международного конфликта характеризуются комплексом интересов и возможностями их защиты, то есть, силовыми возможностями, если силу понимать в современном, широком смысле. Комплекс интересов обусловливает цели каждого из субъектов, определяя, таким образом, объектное поле конфликта - множество целей, которые не могут быть достигнуты одновременно.
Объектом международного конфликта является материальная или нематериальная ценность, по поводу которой интересы его субъектов несовместимы; полное владение или контроль над которой не может быть достигнут одновременно всеми сторонами конфликта.
Объектом международного конфликта может быть территория, политическое влияние, военное присутствие, идеологический контроль и др.. Как правило, международный конфликт возникает вследствие переплетения нескольких различных противоречий, в результате которого образуется система взаимосвязанных объектов - объектное поле конфликта. Некоторыми исследователями выделяется также предмет конфликта, как конкретная, специфически определенная ценность, по поводу которой стороны вступают в конфликтные отношения...
В международном конфликте стороны преследуют несколько целей одновременно. Поэтому объектное поле конфликта, как правило, состоит из нескольких элементов, среди которых важнейшими являются: 1) власть (политический контроль, влияние) 2) ценности, 3) территория и другие физические ресурсы. Эти элементы являются взаимосвязанными, и, распространяя контроль на один из них, субъект конфликта может рассчитывать на укрепление влияния на другие. Такая взаимосвязь усложняет регулирование современных международных конфликтов.
В современных международных конфликтах, конечно, объектами могут быть все указанные группы ресурсов. Особое значение все же приобретают территориальные конфликты, т. е. конфликты, в которых основным объектом выступает территория. Значение и ценность территории обусловлены функциями, которые она выполняет в развитии силовых возможностей современного государства. Территория одновременно является местом размещения армий и вооружения, важным экономическим и геополитическим ресурсом. Это увеличивает ее политическую ценность и делает наиболее «популярным» объектом конфликтов, особенно между новыми или т. н. «слабыми» государствами. Кроме территории объектами конфликта могут выступать и другие материальные ценности.
Отношения между субъектами конфликта представляют собой практическое взаимодействие их стратегий.
В зависимости от фазы конфликта и его объекта, отношения между сторонами концентрируются преимущественно в одной или нескольких смежных сферах. Только масштабные конфликты («тотальные») затрагивают все сферы отношений между сторонами. Отношения между субъектами определяют тип конфликта.
По преобладающему значению отдельной сферы отношений можно выделить экономические, политические, военные, информационные конфликты и т. д.
Основные общие функции конфликта впервые выделены в работах основоположника т. н. «Позитивно-функционального» подхода в конфликтологии Льюиса Козера.
Их совокупность характеризует конфликт как особое состояние отношений между элементами общества, который, в силу выявления системных противоречий, способен решить некоторые из них, обеспечив таким образом поступательность и стабильность дальнейшего развития. Мы выделяем следующие основные функции конфликта.
1) Интегративная функция конфликта заключается в содействии преодолению внутренних противоречий и неувязок.
2) Информационная функция конфликта проявляется в его возможности способствовать обмену информацией между элементами социальных систем.
3) Выступая средством формулировки и разрешения противоречий, конфликт выполняет организационную функцию.
4) Конфликты выполняют другую функцию, которая связана с предыдущей - стабилизационную. Благодаря конфликтам находят выход острые противоречия, способные разрушить систему.
5) Инновационная функция конфликта, как и две предыдущие, связана с его вкладом в поддержание жизнеспособности систем общественных отношений. Конфликт заставляет субъектов и участников генерировать идеи относительно того как победить или разрешить конфликт.
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ ПОСТ-БИПОЛЯРНОГО ПЕРИОДА
После окончания холодной войны, вопреки многим либеральным, оптимистичным прогнозам о постепенном спаде международной конфликтности и конструировании более стабильного мирового порядка, мировая система международных отношений не стала менее конфликтной, равно как и не произошло «устаревания» или «отживания» международных конфликтов.
В то время как, действительно, в развитой части мира война между великими державами является анахронизмом , в других частях света - Африке, Южной Азии, Ближнем Востоке, на постсоветском пространстве - конфликты до сих пор являются неотъемлемой частью межгосударственных отношений и внутригосударственного развития, а вернее, деградации.
Международные конфликты настоящего принимают новую форму, несовместимую с традиционным восприятием понятия войны. Даже для наиболее развитых государств конфликты нового поколения составляют жизненную угрозу. «Новые формы войны и конфликты могут разрушить наше военное преимущество, если мы не обновимся и не адаптируемся», - признают американские военные. Таким образом, данная тематика чрезвычайно актуальна как общецивилизационная проблема.
Основной особенностью развития международной конфликтности последних десятилетий является устойчивое закрепление тенденции на постоянное присутствие вооруженного насилия, что подтверждается данными большинства существующих баз данных по развитию конфликтов.
Согласно Программе данных по вооруженным конфликтам Уппсальского университета, большинство конфликтов последнего десятилетия носит внутренний характер (около 95%), причем их пик пришелся на начало 2010-х и годов по понятным причинам, в то время как традиционные межгосударственные войны почти сошли на нет.
Количественные показатели также свидетельствуют стойкую тенденцию к уменьшению количества и интенсивности войн. Наблюдается четкая тенденция на стабильное уменьшение количества вооруженных конфликтов с участием государств - в 1991 году их количество в мире составляло 49, а в 2005 - 25. При этом тревожной тенденцией является то, что количество государств, так или иначе вовлеченных в вооруженные конфликты, постоянно растет. Это является прямым результатом интернационализации некоторых конфликтов. Такую же противоречивую тенденцию можно проследить в человеческих потерях во время военных действий. В то же время количество потерь гражданского населения во время военных действий непропорционально возрастает. По некоторым подсчетам, потери гражданского населения в конфликтах составляет 80-90% всех жертв (для сравнения: во время Второй мировой войны - около 50%, в начале прошлого века - 20%).
Те изменения, которые понесли международные конфликты после окончания холодной войны, заставило выделить их или радикально в совершенно новый кластер «новых» войн, конфликтов нового поколения, или более осторожно в группу конфликтов, которые лишь изменили свою форму, а не сущность. В профессиональной среде идут дебаты относительно «новизны» международных конфликтов современности. Так, например, Ньюман Э. считает разницу между старыми и современными войнами значительным преувеличением, подвергает сомнению устойчивость тенденций в развитии современных международных конфликтов, отмечает, что все проявления современного конфликта существуют много времени.
Наряду с термином «новые» войны (конфликты), в более широком политологическом и военно-стратегическом дискурсе в одном смысловом ряду используются такие термины как конфликты 4-го поколения, конфликты малой интенсивности, асимметричные конфликты, современные конфликты и пост-современные (post - modern), внегосударственные войны и т. д..
В современной военной науке широкое применение получил термин конфликт 4-го поколения. Его определяют как «форму конфликта, которая используется для достижения моральной победы, подрыва потенциального противника, путем использования слабостей его информационной инфраструктуры, асимметричными действиями, оружием и техникой, отличающейся от оружия и техники врага». По мнению военных специалистов, характерной чертой таких конфликтов является размывание различий между войной и преступностью, виртуальным и физическим, военными и преступниками т. д., «неконвенциональные и асимметричные действия, близкие к повстанческим и террористическим». Таким образом, вооруженная борьба принимает децентрализованную форму, которая отличается от открытой межгосударственной конфронтации предыдущих периодов.
По нашему мнению, конфликты пост-биполярной эпохи - не оторваное от предыдущей эпохи явление, они, несомненно, унаследовали большинство традиционных своих параметров, структуру в виде противоречия, враждебного отношения и поведения, как это определили еще классики. Но большинство качественных параметров международных конфликтов претерпело изменения именно после окончания холодной войны и кардинальной реструктуризации международной системы, развития процессов взаимозависимости и глобализации (и параллельно ее антипода - фрагментации). Таким образом, «новыми» эти конфликты можно назвать скорее по форме, а не по природе.
Характерно, что происходит «устаревание» классических межгосударственных форм вооруженных конфликтов и их постепенная замена другими формами конфликтов - чаще внутригосударственными. Это обусловлено, наряду с другими факторами, деградацией государственной власти, уменьшением роли государств как относительно автономных игроков международной системы, получением возможностей «новыми» игроками (в том числе криминальными военизированными группировками, террористическими организациями, движениями сопротивления и др.). Более или менее эффективно противодействовать легитимным в международно-правовом смысле правительствам, в том числе и влиять на мировую политику. Так, по словам Келдор М., конфликты новой эпохи происходят «в контексте эрозии монополии легитимного организованного насилия».
Глобализация осуществляет двойной эффект на характер современных конфликтов и войн. Во-первых, она приводит эрозию государственной власти и социальную уязвимость, во-вторых создает новые возможности и экономические поощрения, возникающие во время гражданской войны, тем самым стимулируя их начало.
Основными типами конфликтов современности является гражданские войны низкой интенсивности и асимметричные войны, которые ведутся между более сильными и слабыми государствами или негосударственными игроками (Сирия, Ливия). Конфликты нового поколения - конфликты на основе сепаратизма, национализма, повстанческие движения и т. п. - имеют выразительный асимметричный характер, что значительно усложняет, а иногда и делает невозможным их быстрое и устойчивое решение. Затяжной характер большинства современных конфликтов является их характерной чертой.
Качественные параметры «новых» конфликтов.
Определяя вооруженные конфликты современности как качественно новое явление международной системы, авторы теории «новизны» современных войн опираются на такие переменные как игроки или стороны конфликта, причины или мотивы начала и ведения вооруженной борьбы, их пространственное размещение, средства борьбы, потери от конфликта (человеческие жертвы, материальные потери). Все эти факторы, по их мнению, претерпели кардинальных изменений.
Новые войны имеют более сложную многоуровневую структуру с точки зрения состава конфликтующих сторон. Сторонами большинстве внутригосударственных конфликтов являются негосударственные игроки, такие как организованная преступность, криминальные группы, религиозные движения, международные благотворительные организации, диаспора, повстанческие группы. Подобная диверсификация сторон конфликта, по нашему мнению, свидетельствует не только о новых возможностях и потенциалах, которые получили эти игроки благодаря объективным процессам, происходящим в международной системе, но и о многослойную структуру противоречий, лежащих в основе каждого из современных конфликтов и о сложности задачи их долговременного урегулирования на основе удовлетворения интересов всех сторон.
Меняется мотивация и причины начала и ведения боевых действий, использование насилия и т. д.. Как это ни парадоксально, но целью ведения военных действий часто является не победа над соперником, что характерно для традиционных конфликтов, а само состояние войны, его закрепление, то есть война как самоцель. Таким образом, новые войны имеют целью политическую мобилизацию, когда участие в военных действиях является едва ли не единственной формой социальной активности.
По мнению Кэлдор М., новые войны, в отличие от предыдущих эпох, имеют не геополитические или идеологические мотивы, а идут вокруг идентичности, причем эта идентичность в большинстве случаев не имеет связи с государством. Подобное утверждение созвучно противоречивой теории С. Хантингтона о столкновении цивилизаций. Политические мотивы отходят на второй план, отсутствуют «четкие политические цели» и «определенная политическая идеология, которая оправдывала действия».
Относительно влияния конфликтных действий на население, международные конфликты исследуемого периода характеризуются растущей зависимостью населения от конфликтных действий, «зашкаливание» уровня насилия, применяемого к некомбатантам, распространением этнических чисток, насильственного перемещения населения, и тому подобное. Жертвы среди гражданского населения являются преднамеренными, спланированными, а не просто побочными эффектами военных действий.
Развиваются новые способы и методы вооруженной борьбы, классические войны с использованием регулярных армий постепенно сменяются небольшими столкновениями малой интенсивности, формы борьбы близки к партизанским, или «чисткам» гражданского населения. Кроме этого, происходит развитие новых видов оружия, специалисты прогнозируют постепенную трансформацию традиционных форм вооруженной борьбы в бесконтактные и такие, которые не приводят к мгновенной гибели людей, а являются латентными, своеобразными «минами замедленного действия». Так, среди новых видов смертельного оружия специалисты выделяют геофизическое, лазерное, генетическое, акустическое, электромагнитное оружие и т. д.. Безусловно, это было бы более характерно для вооруженных конфликтов между богатыми и технологически развитыми странами.
Главная угроза в этой ситуации заключается в отсутствии международно-правового инструментария, который мог бы адекватно отслеживать и контролировать новые виды оружия, поскольку они чаще всего используют технологии двойного назначения.
Кроме того, по мнению многих либеральных авторов, важным фактором, который постепенно начинает проявляться, является такой морально-нормативный аспект как отношение к международным конфликтам (со стороны международного сообщества).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все указанные в работе факторы стали основой для научных спекуляций относительно кардинально новой природы конфликтов пост-биполярной эпохи. По мнению автора, изменились не сущностные характеристики этого феномена (ведь тогда бы конфликт является конфликтом), а скорее масштабы и формы проявления конфронтационности. Термин «новые» войны (конфликты) является удобным для использования в научном и политическом дискурсе, но не должен означать нечто большее, чем модификация классического вооруженного конфликта.
Важно отметить, что конфликты пост-биполярного периода в силу ряда факторов, указанных выше, вывели на передний план угрозы гуманитарного характера, которые требуют немедленного решения. Очевидно, методы урегулирования подобных конфликтов, как и научный инструментарий их анализа, не всегда соответствуют требованиям времени. Наиболее насущной необходимостью международного сообщества, как и каждого отдельного государства, является адаптация к изменениям, которые привнесли собой конфликты нового поколения, для обеспечения национальной и международной безопасности.
В постбиполярной системе международных отношений существует уникальное взаимодействие симметричных и асимметричных факторов. Это создает дополнительные угрозы, но одновременно и дополнительные возможности для системной стабильности. Общим является то, что в обеих формах конфликтов стороны достигают урегулирования в тот момент, когда стоимость дальнейшего спора превышает стоимость достижения соглашения.
Если средством взаимного давления сторон в симметричных отношениях является силовой потенциал во всех проявлениях и формах; то в ситуации асимметрии таким средством выступают асимметрии времени, целей и др.., а также влияние третьих сторон и взаимозависимость партнеров.
Особенно угрожающими являются конфликты, стороны которых слабо зависят друг от друга. Урегулирование таких конфликтов становится проблематичным, примером чего является международный терроризм, особенно если его рассматривать в контексте «столкновения цивилизаций».
Усиление взаимозависимости субъектов международных отношений и распространение международных режимов является одним из самых эффективных средств предотвращения асимметричных конфликтов.
ЛИТЕРАТУРА
1. База даных UCDP/PRIO (Uppsala Conflict Data Program/ Peace Research Institute of Oslo) - “Number of state-based armed conflicts by type, 1946-2005” // http://www. humansecuritybrief. info/2006/figures. html
2. Белоус XXI века // Международная жизнь. – 2009. - №1. – С. 104-129.
3. Лебедева урегулирование конфликтов. – М.: Аспект-Пресс, 1999. – 271 с.
4. Международное право. и др. 4-е изд., стер. - М.: 2011. - 831 с.
6. Степанова и человек в современных конфликтах // Международные процессы. - 2008. - Т. 6. - № 1 (16) - C. 29–40.
7. Цыганков международных отношений: Учеб. пособие - М.: Гардарики, 2003. - 590 с.
8. Gray S. C. How Has War Changed Since the End of the Cold War? // Parameters. – Spring 2005. // http://www. carlisle. army. mil/usawc/parameters/ 05spring/gray. htm
9. Kaldor M. New and Old Wars: Organized Crime in a Global Era. – Cambridge: Polity Press, 2001. – 216 p.
10. Mial H., Ramsbotham O., Woodhouse T. Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts. – Malden: Blackwell Publishing Inc., 2003. – 270 p.
11. Mueller J. The Obsolescence of Major War// The Global Agenda: Issues and Perspectives/ C. W. Kegley, E. R. Wittkopf. – 4th ed. – New York: McGraw-Hill, Inc., 1995. - P. 44 - 53.
12. Newman E. The “New Wars” Debate: A Historical Perspective is Needed // Security Dialogue. – Vol.35 – 2004. - №2. – P. 173-189.
13. Topor S. A New Generation of Military Conflict Technology – The Fourth Generation Warfare // Strategic Impact. – 2006. - №2. – P.85-90 // www.
14. UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset Codebook // http://www. pcr. uu. se/publications/UCDP_pub/Codebook_v4-2006b. pdf
15. Wilson G. I., Bunkers F., Sullivan J. P. Anticipating the Nature of the Next Conflict. – 19 February 2001 // http://www. /Emergent-thrts. htm
Международное право. и др. 4-е изд., стер. - М.: 2011. – С. 117
Международное право. и др. 4-е изд., стер. - М.: 2011. – С. 121
Wilson G. I., Bunkers F., Sullivan J. P. Anticipating the Nature of the Next Conflict. – 19 February 2001 // http://www. /Emergent-thrts. htm
База даных UCDP/PRIO (Uppsala Conflict Data Program/ Peace Research Institute of Oslo) - “Number of state-based armed conflicts by type, 1946-2005” // http://www. humansecuritybrief. info/2006/figures. html
Панова западные исследования международного конфликта // Международные процессы. - 2005. – Т. 3. – № 2(8) // http://www. intertrends. ru/seven/005.htm
Newman E. The “New Wars” Debate: A Historical Perspective is Needed // Security Dialogue. – Vol.35 – 2004. - №2. – P. 173-189
Topor S. A New Generation of Military Conflict Technology – The Fourth Generation Warfare // Strategic Impact. – 2006. - №2. – P.85-90 // www.
Kaldor M. New and Old Wars: Organized Crime in a Global Era. – Cambridge: Polity Press, 2001. – С. 4
Newman E. The “New Wars” Debate: A Historical Perspective is Needed // Security Dialogue. – Vol.35 – 2004. - №2. – С 177
Панова западные исследования международного конфликта // Международные процессы. - 2005. – Т. 3. – № 2(8) // http://www. intertrends. ru/seven/005.htm
Kaldor M. New and Old Wars: Organized Crime in a Global Era. – Cambridge: Polity Press, 2001. – С. 6
Newman E. The “New Wars” Debate: A Historical Perspective is Needed // Security Dialogue. – Vol.35 – 2004. - №2. – С. 177
Белоус XXI века // Международная жизнь. – 2009. - №1. – С. 104-129.
Степанова и человек в современных конфликтах // Международные процессы. - 2008. - Т. 6. - № 1 (16) - C. 39.