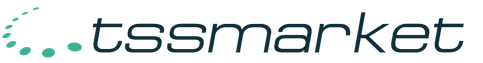Так как семья еле сводила концы с концами, девочки прислуживали в богатых семьях, а Василий был пастухом. Когда ему исполнилось 14 лет, умер его отец. С этого дня Василий стал хозяином в доме, надев отцовскую рубаху, он всем дал понять, что вся ответственность за семью теперь лежит на нём.
В 1936 году Василий женился на Любови Васильевне Хломовой, её отец принадлежал к богатому купеческому роду, он занимался рыбной ловлей, коптил рыбу для продажи.
Молодые жили в семье Бориных. Их первый ребёнок умер в младенчестве , позже родились три дочери. Молодой семье помогал брат Любови Васильевны. Давал свою сеелку, молотилку, веялку. Но во время коллективизации всё было изъято.
Батюшка вспоминал с грустью об этом времени, пришлось сидеть в тюрьме, несколько раз угрожали расстрелом. Во время войны был в плену. Покаянная молитва не сходила с уст, а когда немцы вели на расстрел, взмолился: «В руце Твои, Господи, приими дух мой...» И его отпустили...
После войны семья Бориных жила у родственников Любови Васильевны в деревне Реола, затем перебрались в Тарту, там получили небольшой участок. Василий долго не мог устроиться на работу, так как искал место, где можно было бы вместо отпуска не работать в дни церковных праздников. Но на таких условиях его не брали на работу. Наконец устроился на расчистку леса от веток. Но так случилось, что ему не прислали трактор, и он не успел выполнить всю работу, поэтому работал в Страстную пятницу – сжигал ветки. От костра огонь перекинулся на лес. Он бросил тушить пожар, при этом кричал: «Господи, буду служить Тебе, только потуши пожар». Прибежали люди на помощь, пожар был потушен.
Следует отметить, что Василия не раз приглашали учиться в семинарию, но он сомневался, сможет ли быть священником.
Помня своё обещание, Василий скоро уехал в Петербургскую семинарию, где проучился 2 года.
Профессор Богослов Игорь Цезаревич Миронович вспоминает: «Любовь народную завоевали не мы, учёные, а он... Я в семинарии с ним учился ... Люди за ним толпами ходили. Мы удивлялись, что он им говорит. Всегда в старом подряснике, а новый, как выдадут – тут же продаст, семье помогал».
Из-за крайне тяжёлого материального положения его семьи, в 1952 году ему дали приход в деревне Финева Гора в Псковской области, в 1955 – перевели в деревню Верхний Мост. Вскоре появилась возможность закончить учёбу в семинарии, и батюшка вернулся в Петербург.
После окончания семинарии отца Василия перевели в Эстонскую епархию.
Отец Василий незадолго до своего переезда с Псковщины в Эстонию видел сон – кто-то пришел к нему и сказал: «Начинай восстанавливать разбитую церковь в Сыренце!». Приехав в Таллиннское епархиальное управление представиться митрополиту Алексию*, отец Василий робко сказал: «Владыка, не посчитайте это за неуместную шутку. Видел я сон, якобы посылают меня восстанавливать церковь в каком-то Сыренце. А где это? И что это такое?». Улыбнувшись, митрополит Алексий ответил: «Так Сыренец в моей епархии. Это село называется теперь Васкнарва. Вот и хорошо, очень хорошо, я вас и направлю туда». (* Епископ Таллиннский и Эстонский Алексей (Ридигер) 29 июня 1986 года был назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским с поручением управлять Таллиннской епархией. 7 июня 1990 года на Поместном Соборе Русской Православной Церкви митрополит Алексий был избран на Московский Патриарший Престол. Интронизация состоялась 10 июня 1990 года.)
Недалеко от Пюхтицкой обители в месте, где из Чудского озера берет начало река Нарва, по промыслу Божиему, отцу Василию Борину надлежало восстанавливать Ильинский храм в деревне Васкнарва. Ему, как и Пюхтицким блаженным были чужды гордость и тщеславие, по своему глубокому смирению он не полагался только на свою силы (в противном случае он мог впасть в уныние, глядя на руины церкви, которую ему предстояло восстановить). Зная, что велика сила молитв Пюхтицких блаженных стариц*, он часто посещал места их упокоения, чтобы испросить их молитвенного предстательства перед Господом.
(Блаженная старица Елена(1866- 1947) и блаженная старица Екатерина(1889-1968) похоронены на монастырском кладбище недалеко от Никольской церкви.)
Для восстановления каменной церкви нужны были кирпич, цемент, доски, способные трудиться люди. Пюхтицкая обитель помогала всем, чем могла.
Одна из духовных дочерей подвижника была свидетельницей того, как по молитвам блаженной Елены отцу Василию выдали цемент, хотя первоначально работники склада заявили, что цемента нет, из-за этого стоит строительство школы и больницы. Отец Василий спокойно ответил, что этого не может быть: «Я перед отъездом сюда заезжал в Пюхтицкий монастырь, молился блаженной Елене, а она мне всегда помогает. Цемент для меня должен быть!» - и сел на стул. Чуть позже подошёл ещё один сотрудник склада, и, узнав о случившемся, спросил протоиерея Василия: «Может, это для тебя в тупике стоит вагон с цементом, в котором не хватает двух тонн? Давно идёт тяжба по этому поводу».
Отец Василий радостно воскликнул, что блаженная Елена его никогда не подводила, и он берёт цемент, и готов оплатить недостаток. Когда цемент привезли в храм, то оказалось, что там не было недостатка, а наоборот - избыток.
Поначалу было очень трудно отцу Василию. Рядом с развалинами каменного храма стояла маленькая деревянная церковь, там отец Василий служил. Господь наделил его даром исцелять болезни душевные и телесные - он отчитывал людей, имел на это благословение ныне прославленного преподобного отца Симеона Печерского. (Следует отметить, что отец Василий был духовным сыном архимандрита Иоанна (Крестьянкина) (1910-2006)).
К отцу Василию в Васкнарву приезжало много людей, надо было их где-то размещать, поэтому он возвел несколько построек.
Из рассказа игуменьи Варвары (Трофимовой): «Часто отец Василий через нас – мимо Пюхтицы – проезжал. Зайдёт, бывало, на монастырское кладбище - и прямехонько на могилки к матушке Елене да к матушке Екатерине, блаженным нашим, и просит: «Старицы Божии, помогите мне. Я сейчас к матушке игумении пойду, у неё поклянчу немножко...
Вот по-простому поговорит на могилочках, помолится... И мне всё расскажет: «Матушка, уж так просил, так просил стариц Божиих...»
Я говорю: «Ну, батюшка, вас Господь не оставит».
Вот, матушка, еду, там кирпич обещали, там немного дощечек... А ты мне что-нибудь дашь?
Дам, батюшка, обязательно...
Вот так отец Василий и начинал. А как пошло дело! Он всё расчистил, заново заложил фундаменты трёх алтарей... Я много раз приезжала к нему и радовалась.
Днём работает, а вечером всенощную служит, со своими богомольцами молится. Никого у него в помощниках не было . Ни второго священника, ни дьякона. И причащал, и отчитывал, и молебны служил, и соборовал - и все один. Народ к нему пошёл. Приезжали из Петербурга, из Москвы – отовсюду, везли вещи, иконы, материалы, появились портнихи, маляры, штукатуры, повара... Кто шьет облачения, кто стряпает, кто штукатурит, красит, кто дрова пилит. Нашлись и художники, которых он сразу поставил орнаменты расписывать, а в дальнейшем приступили и к настенной росписи в Никольском приделе.
Отец Василий хотел, чтобы все «как по-старому было». Нашел старинные фотографии, у нас в монастыре тоже кое-что нашлось... «У меня будет церковь только трех престольная!»- говорил он».
Главный престол - в честь пророка Божия Илии, левый - во имя Святителя Николая и правый - во имя Иоанна Крестителя.
15 октября 1978 года митрополит Алексий совершил освящение Никольского придела восстановленного из руин Ильинского храма в Васкнарве . Отец Василий прослужил в этом храме до самой кончины, наступившей 27 декабря 1994 года.
Из воспоминаний игуменьи Варвары (Трофимовой): «Я очень любила отца Василия, просто преклонялась пред его мужеством и любовью. Это был истинный пастырь, духовный подвижник. Он горел весь. Привлекала в нем честность, прямота, подлинная открытость ближним. Если попросишь его о чем-нибудь - он, кажется, всю душу тебе готов отдать. И все от Бога полученные таланты вкладывал в Божие дело , в церковь».
Из воспоминаний духовной дочери отца Василия: «Отец Василий был очень терпелив, много молился и скорбел о своих чадах. Он старался вызвать в людях страх Божий... Батюшка говорил человеку: « Да, ты болен! Так как же ты исцелишься, если ты в грехе и продолжаешь грешить? И человек страшился, что на всю жизнь останется калекой, и старался творить молитву.
Батюшка учил нас любви к отошедшим душам и молитве о них. Однажды на праздник ему подали так много записок об упокоении, что у него не хватило сил и времени их прочесть. Он упал на колени и зарыдал, прикрыв записки руками: «Господи, - взмолился он, - Ты видишь, что у меня нет сил прочесть их все , прочитай Сам!». Когда батюшка поднял руки, то понял, что все записки прочтены. Тогда он возблагодарил Господа... У него был дар слёз, он умел молиться и плакать вместе со скорбящей и болящей душой».
Многие люди исцелялись по молитвам подвижника, но некоторые оставались в том же состоянии. Отец Василий говорил: «Я – только раб Божий, а исцеление от Бога. Ничто не происходит с верующим человеком без воли Божией. Если Господь благословляет очищение, то и бесы отступают».
Из воспоминаний духовной дочери отца Василия: «Однажды к батюшке приехала женщина с привлекательной дочерью, но не совсем здоровой... Она долго трудились. Мать привезла большую сумму денег на восстановление храма. Без устали таскала кирпичи, выполняла любую работу... Приблизилось время отъезда, и сердце её сжимается от отчаяния: «С чем приехали, с тем и уезжаем», - говорила она отцу Василию... Отец Василий очень расстроился после разговора с ней... Ночью не мог заснуть... встал на колени, поднял руки с мольбой и слезами настойчиво стал просить Господа помочь бедной женщине.
Утром после службы и отчитки произошло чудо. Девочке стало лучше. Мать, бесконечно счастливая, уезжала с дочкой домой, благодаря Бога и о. Василия.
Прошло немного времени, и о. Василий получил от неё письмо, залитое слезами: «...Батюшка, помолитесь за дочку... Ушла из дома, связалась с наркоманами...»
Батюшка закрылся в келье, горько плакал и просил прощение у Господа за ту дерзкую ночную молитву о ней.
На проповеди он часто рассказывал эту историю и говорил, что нельзя идти против воли Божией. Если не дается что-то по желанию твоему, значит так лучше для тебя. Смирись, подчинись воле Божией. «Если бы тогда я и мать поняли это, то дочь, хотя и больная, не погибла бы в грехах».
Батюшка говорил, что Господь только тогда может быть с человеком, когда человек смирился, перед всеми обстоятельствами, которые ему ставит Сам Бог...
Отец Василий говорил нам: «Если вы сейчас перестанете болеть, будете совсем здоровы, то пусти вас в мир – погибните!»
Он лишь облегчал страдания, о полном исцелении не просил Бога. Чтобы человек всегда жил в покаянии и всегда желал обращаться к Богу...
В одной из проповедей он рассказывал о своей прихожанке, которая работала в колхозе. Когда бригада отдыхала, она уходила в сторонку и читала Евангелие. И вот пришло ей время умирать. Батюшке сообщили, но когда он пришёл было уже поздно... «Вы все приняли меры?» - спросил он у врача. «Да», ответила та.
Тогда отец Василий сказал: «Эта раба Божия не оставляла Евангелие, Бог не оставит её без причастия». И обращаясь к лежащей, произнёс: «Кайся, раба Божия!». И стал перечислять грехи. В этот момент все увидели, как две слезинки выкатились из её закрытых глаз. А батюшка спросил: «Причащаться будешь?».
Она открыла рот, и батюшка её причастил.
« Да, - сказала врач, - Бог есть!» - и с этого времени уверовала в Господа».
Из воспоминаний В. Л.: «...Отец Василий советовал утром, вставая с постели, перекрестить ноги со словами: «Господи, благослови стопы мои идти по путям заповедей Твоих!
Батюшка старался, как можно дольше продержать нас в храме, объясняя, что каждую минуту, проведённую здесь, ангел записывает...»
Он помогал людям встать на правильный путь. Решались ли семейные дела, возникали ли квартирные вопросы – батюшка обязательно молился в храме, во время молебна, на Литургии, за тех, кто к нему обращался. Молился и в келье. И только потом давал ответ...
Надо сказать, что времена тогда для православных людей были суровые. Мы не могли подолгу оставаться у о. Василия: милиция наведывалась и ночью, и вечером. Приходилось прятаться. А кому не удавалось – тех увозили, хотя по молитвам о. Василия, они возвращались...
Однажды власти собирались закрыть храм, но батюшка усердно молился, и наутро выпал такой сильный снег, что они не смогли проехать на машине. Даже хлеб тогда сбрасывали с вертолётов. Батюшка ликовал...»
Приведём ещё несколько свидетельств о чудесах явленных Господом по молитвам подвижника:
«...Батюшка привёз нас к себе, а сам заболел, слёг с температурой 39 градусов. Сильный изнуряющий кашель, да ещё флюс... Он лег прямо на полу в своей деревянной церкви...
К вечеру собралось множество народу – это был день, назначенный батюшкой для отчитки. Один раз в неделю приезжали больные, перед болезнями которых врачи оказались бессильны... Люди собрались, ждут, а батюшка лежит на полу совсем больной, кашляет, стонет от боли... Народ начал роптать...
Отец Василий встал, превозмогая боль, и пошёл в алтарь. Были слышны его стоны и плач.
Вдруг всё изменилось: распахнулись Царские врата, отец Василий стоял совершенно здоровый, бодрый с радостным лицом .
Вот, дороги мои. Вы сами видели, какой я только что был. Но Господь восстановил меня после молитвы. «Господи, - сказал я, повергшись перед ним на пол. Господи, не ради меня, грешного. Но ради народа, который ко мне пришёл, пощади меня, исцели!»
Да это было чудо. Отец Василий был совершенно здоров. Кашель не возобновился...
Отец Василий рассказывал, как однажды всё лето молился пророку Илии, чтобы тот не давал дождя на землю, потому что крыша храма была не покрыта. Так вот, сильный дождь полил только по окончании строительных работ.
А сколько слёзных молитв вознёс батюшка к Богу, прося средств и помощи для ведения строительных работ! Об этом одному Богу известно.
Помню, пришли к батюшке двое рабочих просить рассчитаться с ними за какое-то дело. А денег у него нет...
Вот отец Василий и говорит рабочим:
Погодите до вечера, я жду с почты перевод.
Хотя ни о каком переводе он не знал, а поэтому волновался, конечно. Но молился и верил.
И, правда, вскоре пришёл денежный перевод. Сам отец Василий этому удивлялся.
Но не только даром молитвы обладал батюшка. Был у него великий дар предстояния пред Богом. На каждое дело он испрашивал благословение у Господа, у Царицы Небесной, у святых. Если предстояло решать какой-либо вопрос, то без молитвы он ничего не предпринимал. А обращался немедленно с пламенным и часто слёзным молением к Богу, и получал ответ, да-да, именно ответ внутри своего сердца. Поэтому отец Василий всегда имел ясность и твёрдость убеждения, как поступать».
Приведём воспоминание о последних днях подвижника из книги «Отец Василий Борин»: « Когда он заболел, то сказал, что умрёт и родные, приехав, уже не застанут его в живых. Так и случилось...
Батюшка был уже болен и не служил. И вот как-то летом долго не было дождя. В храме отслужили молебен, но на небе – ни облачка. Тогда отец Василий, совсем больной, еле двигаясь, пошёл в храм, помолился у престола, и вскоре крупные капли дождя напитали землю влагой.
Последний раз батюшка служил в 1992 году в Прощеное воскресенье . О. Василий у всех попросил прощение. У него едва хватало сил стоять, в алтаре он не смог сам снять облачение, алтарник ему помог... В ночь на субботу, 24 декабря 1994 года, батюшке стало плохо. Позвонили благочинному... Позвонили матушке игумении..., попросили помолиться, чтобы батюшка дожил до причастия.
Когда приехал благочинный, о. Василий пришёл в сознание. Его соборовали, причастили, он всех узнал, назвал по имени, потом силы оставили его, и больше он в сознание не приходил . В воскресенье приехали священники, прочитали отходную...
27 декабря 1994 года в 2 часа ночи тихо, в молчании, как бы весь находясь в послушании воле Божией, батюшка скончался.
Вечная память тебе и низкий поклон, батюшка Василий!»
По благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия приход храма Воздвижения Креста Господня деревни Лукино издал книгу «Всяких благ подательница. Ахтырская икона Божией Матери». Книга написана настоятелем храма священником Василием Полежаевым с использованием архивных материалов и дореволюционной периодики. В настоящее время это самое полное описание истории явления и церковного прославления Ахтырской иконы.
В книге приведены десятки документальных свидетельств о чудесах как от явленной в Ахтырке иконы, так и от чтимых списков с нее. Вот одно из чудес. «В городе Ахтырка в семье Андрусенковых умер кормилец, глава семьи Андрей. После себя он не оставил никаких средств к существованию. На руках его старшей дочери Марии осталась престарелая мать, малолетние братья и сестры. Мария стала зарабатывать на жизнь стиркой белья. Как-то зимой 1859 года она на реке полоскала белье и сильно простудилась. Ноги до колен разбил паралич, ходить она не могла, а ползала с места на место, опираясь на колени и руки. Более шести лет она так страдала и все шесть лет почти ежедневно, несмотря на слякоть и грязь, ползала в Покровский храм к чудотворной иконе Божией Матери. 25 марта 1866 года, в праздник Благовещения, который в том году совпал с Великим Пятком, Мария приползла в храм, но не смогла приложиться к иконе вследствие огромного стечения народа. Находясь в тяжелом состоянии, она поняла, что не сможет дождаться очереди, и со скорбью решила ползти обратно домой, просто мысленно помолившись Пресвятой Деве. И вдруг она ощутила в своих безжизненных дотоле ногах теплоту. Мария встала, хотя и с трудом, на собственные ноги и, придерживаясь за колонны, поднялась по ступенькам к чудотворному образу. С обильными слезами радости она облобызала святую икону. С того времени ноги ее все более и более укреплялись, она могла свободно ходить с тросточкой и каждый день посещала все богослужения в храме Божией Матери. Более того, летом 1867 года она пешком ходила в Киев поклониться Печерским угодникам».
Глава о почитании чудотворного образа в России рассказывает о малоизвестных фактах связи Ахтырской иконы со знаменитыми людьми, в том числе великим русским писателем Н.В. Гоголем. В Приложении опубликован перевод рукописного Сказания о явлении Ахтырской иконы. Текст выявлен в собрании рукописей Троице Сергиевой лавры и переведен автором книги. Так же в новом издании опубликован Акафист Ахтырской иконе. Текст акафиста исправлен по изданию 1916 года.
В ходе работы над книгой было выявлено, что первый в России престол, посвященный Ахтырской иконе Божией Матери был освящен в Крестовоздвиженском храме села Лукино нашей епархии. Этот храм с приделом в честь Ахтырской иконы был построен в 1756 году, а в самой Ахтырке храм с приделом в честь новоявленного образа был освящен только в 1768 году. В книге рассказано об обретении в Лукино нового мироточивого списка Ахтырской иконы Божией Матери. Вот этот рассказ.
«Храм в Лукино был построен тщанием майора Федора Валуева, большого почитателя Ахтырской иконы. Конечно, это строительство было связано с чудесной помощью, полученной Федором Еремеевичем от Ахтырской святыни. В церкви хранился чтимый список чудотворного образа. Но, к сожалению, подробные обстоятельства этой истории пока остаются нам неизвестными. После закрытия храма безбожниками в 1927 году чтимый Лукинский список Ахтырской иконы был утрачен, но в наше время Богородица явила здесь другой чтимый образ.
В 2003 году полуразрушенный храм начали восстанавливать. По бедности Ахтырскую икону для храма заказали не писаную, а репродукцию на МДФ в Софринском церковном предприятии. Перевозили икону на багажнике легковой машины. Во время движения по оживленной трассе Москва – Ярославль икона, закрепленная резинками, неожиданно сорвалась. Икона высотой более метра улетела с багажника автомобиля, идущего на большой скорости среди потока машин, и, не причинив никому вреда, упала прямо на проезжую часть лицом вниз. Чудом ее удалось убрать с дороги, забитой машинами. У иконы оказался отломленным один из углов, а в нижней части под изображением руки Богородицы появились параллельные царапины на площади около дециметра. Икону на сей раз разместили в салоне легковушки и так привезли в храм. Через некоторое время обнаружили, что на месте царапин собирается маслянистая жидкость. Потом она стала появляться и в других местах. Провели эксперимент. Вытерли все имеющиеся пятна ваткой и отслужили Акафист перед иконой. Жидкость выступила снова в короткий период, когда к ней достоверно никто не прикасался. Зафиксировали происходящее на видео. Прошло некоторое время. Однажды настоятель, рассказывая эту историю паломнику, поднес свечу, чтобы в косом свете лучше были видны царапины и, к своему удивлению, не увидел ни малейшего следа от них.
Так Пресвятая Богородица явила свое благоволение к трудам по восстановлению Своего храма. В настоящее время богослужение в приделе Ахтырской иконы Божией Матери возобновлено, восстановление храма продолжается».
Книгу можно приобрести в Крестовоздвиженском храме деревни Лукино Куньинского района, в Успенском храме деревни Успенское Великолукского района или заказать по адресу [email protected] или позвонив распространителю по тел. 89113607913.
 Герондисса Макрина (Вассопулу) — первая игумения основанного по благословению Старца Иосифа Исихаста монастыря Богородицы Одигитрии в деревне Портарья близ города Волос. Мария (так звали старицу до пострига) в младенчестве пережила ужасы Малоазийской катастрофы, когда с родных мест вынуждены были бежать тысячи греческих семей. Она рано осталась сиротой и с раннего детства вынуждена была зарабатывать на хлеб насущный. Во время Первой Мировой войны Мария едва не умерла от голода. Еще в детстве Господь свел ее с иеромонахом Ефремом Караянисом, одним из учеников Старца Иосифа Исихаста, который научил ее Иисусовой молитве. Претерпевая многоразличные скорби с великой верою и упованием на милость Божию, она постоянно молилась, и Господь сподобил ее дара непрестанной молитвы. Старец Ефрем Аризонский, который с детства знал Герондиссу Макрину, говорил, что он не видел другого человека с таким «чистым помыслом». Когда группа живущих по-монашески девушек объединилась для совместного жительства, их духовником стал Старец Иосиф Исихаст. По особому откровению от Бога, возглавить эту общинку Старец благословил далеко не самую старшую из сестер Марию Вассопулу. Окормляемая Великим Старцем община выросла в монастырь. «Из полы в полу» перед своей кончиной Старце Иосиф передал Волосовских подвижниц отцу Ефрему Мораитису, ныне известному как Старец Ефрем Аризонский. Живя в смирении и самоотверженной любви, Герондисса сподобилась многоразличных благодатных даров от Господа. Ее почитали многие известные подвижники. Старец Ефрем Катунакский говорил о ней, что она «находится в такой же духовной мере, как и Старец Иосиф Исихаст». Старец Софроний Сахаров называл ее «титаном Духа». Возглавляемый Герондиссой Макриной монастырь — подворье Афонского монастыря Филофей – послужил благим корнем, от которого произрасли многие женские монастыри не только в Греции, но и в Америке, Канаде и Грузии. стал рассадником исихасткой традиции в женских монастырях не только в Греции, но и в Америке и в Канаде. Надеемся, что по милости Божией, издаваемая книга станет некоторым вкладом в укрепление в русском женском монашества исихастких традиций. Предлагаем вниманию читателя отрывок из книги.
Герондисса Макрина (Вассопулу) — первая игумения основанного по благословению Старца Иосифа Исихаста монастыря Богородицы Одигитрии в деревне Портарья близ города Волос. Мария (так звали старицу до пострига) в младенчестве пережила ужасы Малоазийской катастрофы, когда с родных мест вынуждены были бежать тысячи греческих семей. Она рано осталась сиротой и с раннего детства вынуждена была зарабатывать на хлеб насущный. Во время Первой Мировой войны Мария едва не умерла от голода. Еще в детстве Господь свел ее с иеромонахом Ефремом Караянисом, одним из учеников Старца Иосифа Исихаста, который научил ее Иисусовой молитве. Претерпевая многоразличные скорби с великой верою и упованием на милость Божию, она постоянно молилась, и Господь сподобил ее дара непрестанной молитвы. Старец Ефрем Аризонский, который с детства знал Герондиссу Макрину, говорил, что он не видел другого человека с таким «чистым помыслом». Когда группа живущих по-монашески девушек объединилась для совместного жительства, их духовником стал Старец Иосиф Исихаст. По особому откровению от Бога, возглавить эту общинку Старец благословил далеко не самую старшую из сестер Марию Вассопулу. Окормляемая Великим Старцем община выросла в монастырь. «Из полы в полу» перед своей кончиной Старце Иосиф передал Волосовских подвижниц отцу Ефрему Мораитису, ныне известному как Старец Ефрем Аризонский. Живя в смирении и самоотверженной любви, Герондисса сподобилась многоразличных благодатных даров от Господа. Ее почитали многие известные подвижники. Старец Ефрем Катунакский говорил о ней, что она «находится в такой же духовной мере, как и Старец Иосиф Исихаст». Старец Софроний Сахаров называл ее «титаном Духа». Возглавляемый Герондиссой Макриной монастырь — подворье Афонского монастыря Филофей – послужил благим корнем, от которого произрасли многие женские монастыри не только в Греции, но и в Америке, Канаде и Грузии. стал рассадником исихасткой традиции в женских монастырях не только в Греции, но и в Америке и в Канаде. Надеемся, что по милости Божией, издаваемая книга станет некоторым вкладом в укрепление в русском женском монашества исихастких традиций. Предлагаем вниманию читателя отрывок из книги.
«Как-то в Великую Четыредесятницу Мария очень бедствовала. У нее был долг, который нужно было заплатить до Пасхи, и поэтому она очень экономила. Всю Страстную Седмицу она ела только немного хлеба размоченного в воде, а ничего другого не могла купить. Но Бог не оставил ее. Вот как она рассказывала позднее об этом сестрам:
«Хочу вам рассказать, что делает Бог в лишениях, в великой нищете, как помогает. Он утешил меня, не потому, что я достойна, но чтобы показать, как Он всемогущ и как нам следует служить Ему. Пришла Великая Суббота. В восемь вечера я пошла в церковь, потому что наш духовник рано начинал читать Деяния Апостолов. Так, как это совершается на Святой Горе. Я сидела в уголке и тянула четочки. Все держали в руках лампады, а у меня не было ничего, даже одной свечечки, ничего. Как я, не имея свечи, пойду на раздаяние Святого света, когда запоют «Приидите, приимите свет » ? И сказала я в уме: «Если хочешь, Христе мой, чтобы у меня не было лампады принять Святой свет, буди благословенна воля Твоя».
Я обращалась ко Христу, сетовала, говорила с болью. Вспомнила я подвижников и подумала: «Сколько подвижников в пустыне не имеют хлебушка, не имеют еды и Бог заботиться о них. Что я расстраиваюсь? И обо мне Бог позаботится. Если захочет, то Он пошлет мне людей, которые принесут и мне что-нибудь. Он просветит их принести и мне лампадочку». И вот вижу женщину, которая подходит ко мне и говорит:
— У тебя нет лампады?
— Нет, нету, — отвечаю ей
— В такой день у тебя нет лампады? На Пасху быть без лампады? — удивилась женщина
— Если пожелаешь, то принеси мне со свечного ящика лампаду, а я тебе отдам деньги потом. Сейчас у меня нет, но на следующей неделе отдам, — сказала я.
— И не говори, дитя мое, что ты мне заплатишь, я и так дам тебе лампадку, — сказала она, пошла и принесла мне лампадку…
Тогда у нашего духовника был устав поклоняться иконе Воскресения Христова сразу как входили в храм после пасхального крестного хода. Как только я приложилась, сразу ощутила как будто Святое Воскресение вошло в мое сердце и наполнило его. Я услышала такой голос, будто включили все громкоговорители мира. Голос говорил: «В начале бе Слово, и слово бе к Богу и Бог бе Слово ». Я слышал внутри себя Пасхальное Евангелие, хотя батюшка его еще не читал, и лишилась чувств.
Я не поняла, что со мной случилось. Когда я пришла в себя, это Евангельское слово стояло в моих ушах, пребывало в моем сердце. Ко мне пришло такое насыщение, словно я ела яйца, сыр, мясо со всего мира. Я не знаю, сколько времени я была без чувств. Эти слова запечатлелись в моей душе. Я слышала этот прекрасный голос всю Пасхальную Службу, и эти Евангельские слова приносили мне насыщение. И потом мне пришел помысел: «Вот оказывается, какое насыщение ощущают отцы в пустыне, которые не едят, ничего не вкушают».
Не могу вам описать, какие неизреченные глаголы услаждали мою душу. Я ощущала неизреченное благоухание и неизреченный вкус, как будто вкушала весь мед мира, всю сладость мира. И хотя за Страстную Седмицу я была истощена от неядения и лишений, но теперь у меня появились силы. Я чувствовала себя так, как ощущает какой-нибудь силач. А когда духовник сказал мне «Христос воскресе!» в моей душе распространилось еще большее духовное богатство. Когда же я причастилась, это насыщение достигло своего предела.
Я отправилась домой. Пришла. Мне не хотелось ни есть, ни пить. Меня позвала разговляться двоюродная сестра. Но как ей сказать, что я «поела»? Пошла, но и одной ложки не смогла осилить. А в полдень меня позвала на обед кума, у которой я крестила двух детей. Она была очень богатой. До обеда я ничего не ела и думала: «Как я сейчас пойду в этот дом?» Они были духовными людьми, и я боялась, что мое состояние заметят и будут меня расспрашивать, а я не хотела объяснять то духовное состояние, что даровал мне Бог.
И вот, я говорю вам: «Что делает Бог! Я ощущаю величие Божие и удивляюсь, какие богатства дарует Он человеку!» Поэтому истинно сказано в Евангелии, что не только пищей живут люди, но и благодатию Божией. Во славу Христа говорю вам, что я ощутила благодать Христову ради перенесенных мною голода, злостраданий и лишений. Бог дал мне понять, к чему ведут здешние лишения. Какое добро приносят человеку воздержание и молитва!»
Так для назидания сестер рассказывала об этом случае герондисса. А старец Ефрем Мораитис, рассказывая об этом же случае, делает очень характерное дополнение. Оказывается, что Марии перед Пасхальной Службой все-таки удалось выкроить денег, чтобы купить себе Пасхальную свечу. Но когда она шла на службу, ей повстречалась нищая и голодная девочка и Мария, не задумываясь, отдала ей то, что с таки трудом приобрела . По своему смирению блаженная старица не упомянула об этом эпизоде».
Отличный от русской практики момент Пасхальной службы, когда перед Пасхальным крестным ходом, гасятся все огни в храме. Остается горящей одна лампада в алтаре на престоле. Возженные от нее свечи выносит предстоятель через Царские врата народу. При пении особой стихиры «Приидите, приимите свет… » все подходят к предстоятелю и зажигают свои пасхальные лампадки или свечи, с которым далее идут на крестный ход и с возженными стоят всю Пасхальную Службу. Так совершается на Святой Горе Афон и в большинстве церквей и монастырей Греческой и других Поместных Церквах.
| Содержит теги |Идти к людям было его главным правилом. Он спускался с амвона для того, чтобы расспросить каждого о его нуждах и постараться помочь. Будучи истинным пастырем, он служил людям своим проникновенным словом, в котором сочетались требование покаянной дисциплины и безграничная любовь и милость к страждущим. Будучи верным сыном своей многострадальной отчизны, он смело высказывался на самые злободневные темы, касающиеся ее современной жизни и трагической истории.
Долгое время Василий Ермаков, протоиерей, служил настоятелем храма преподобного Серафима Саровского г. Санкт-Петербурга). Он является одним из известнейших российских священников последних десятилетий. Его авторитет признан как в петербургской епархии, так и далеко за ее пределами.
Василий Ермаков, протоиерей: «Моя жизнь была - битва…»
Его жизнь была «битва, по-настоящему, - за Бога, за веру, за чистоту мысли и за посещение храма Божия». Так священник Василий Ермаков определил свое кредо в одном из последних интервью.
Тысячи людей в течение многих лет, в том числе и в советское время, благодаря ему находили свою дорогу в Церковь. Слава о его несомненных духовных дарах ширилась далеко за пределы России. Из разных уголков мира к нему приезжали за советом и наставлениями.
Многим отец Василий оказал духовную помощь и поддержку. Он считал, что каждому необходимо «искренне, от всего сердца и всей души молиться. Молитва привлекает Дух, а Дух убирает... все лишнее, безобразное и учит, как нужно жить и вести себя…».

Биография
Василий Ермаков, священнослужитель Русской митрофорный протоиерей, родился 20.12.1927 г. в г. Болхове а умер 3.02.2007 г. в г. Санкт-Петербурге.
"Многие, - говорил Василий Ермаков (фото его вы можете видеть в статье), - полагают, что священник имеет перед мирянами какую-то привилегию или особую благодать. Грустно то, что так думает большинство духовенства. На самом деле особая привилегия священника заключается в том, что он должен быть слугой каждому встречному. В течение всей жизни, без отпусков и выходных, круглосуточно".
Отец Василий подчеркивал высокий миссионерский смысл и жертвенный характер жизни и деятельности священнослужителя. «У тебя нет настроения - а ты иди и служи. Болят спина или ноги - иди и служи. Проблемы в семье, а ты иди и служи! Так требует Господь и Евангелие. Нет подобного настроя - прожить всю свою жизнь для людей - займись чем-нибудь другим, не принимай на себя бремя Христа», - говорил священник Василий Ермаков.

Детство и отрочество
Он родился в крестьянской семье. Первым его наставником в церковной вере был отец. В то время (в конце 30-х) все 28 церквей его небольшого родного городка были закрыты. Василий начал учиться в школе в 33-м году, а в 41-м закончил семь классов.
Осенью 41-го город Болхов захватили немцы. Всех, кто был старше четырнадцати лет, отправили на принудительные работы: расчистку дорог, рытье окопов, закапывание воронок, строительство моста.
В октябре 1941 года в Болхове была открыта церковь, построенная близ бывшего женского монастыря. В этой церкви впервые посетил службу, а с марта 42-го стал ходить туда регулярно и прислуживать при алтаре Василий Ермаков. Протоиерей вспоминал, что это была церковь 17 века, воздвигнутая во имя св. Алексия, митрополита Московского. Местного священника звали отец Василий Веревкин.
В июле 1943 г. Ермаков с сестрой попали в облаву. В сентябре их пригнали в один из эстонских лагерей. Таллиннским православным руководством в лагерях проводились богослужения, в числе других священнослужителей сюда приезжал протоиерей Михаил Ридигер. Между Ермаковым и протоиереем завязались дружеские отношения.
В 43-м вышел приказ освободить из лагерей священников и их семьи. Сидевший там же Василий Веревкин причислил тезку к своей семье. Так молодому священнослужителю удалось покинуть лагерь.
До конца войны
Вместе с сыном Михаила Ридигера Алексеем в должности иподьякона у епископа Нарвского Павла служил и Василий Ермаков. Протоиерей вспоминал, что одновременно, чтобы прокормиться, он вынужден был работать на частной фабрике.
В сентябре 44-го Таллин освободили советские войска. Василий Тимофеевич Ермаков был мобилизован. Служил в штабе Балтийского флота. А свое свободное время отдавал выполнению иподьякона, звонаря в таллиннском соборе Александра Невского.
Образование
Когда закончилась война, Василий Ермаков возвратился домой. В 1946 году сдал экзамены в духовную семинарию г. Ленинграда, которую в 1949 году успешно закончил. Следующим местом его учебы была духовная академия (1949-1953), окончив которую, он получил степень кандидата богословия. Темой его курсовой работы была: «Роль русского духовенства в освободительной борьбе народа в период Смутного времени».
В одной группе с Ермаковым учился и будущий II (сидели вместе за одной партой). Духовная академия способствовала окончательному формированию взглядов молодого священника и определению твердого решения посвятить свою жизнь служению Богу и людям.
Духовная деятельность
По окончании учебы в академии Василий Ермаков вступает в брак. Его избранницей стала Людмила Александровна Никифорова.
В ноябре 1953-го епископом Таллиннским и Эстонским Романом молодой священник был рукоположен во диакона. В этом же месяце он был рукоположен во иерея и назначен клириком Николо-Богоявленского кафедрального собора.

Никольский собор оставил большой памятный след в сознании священника. Его прихожанами были знаменитые артисты Мариинского театра: певица Преображенская, балетмейстер Сергеев. В этом соборе отпевали великую Анну Ахматову. Отец Василий исповедовал прихожан, посещавших Никольский собор с конца 20-30-х годов.
Свято-Троицкая церковь
В 1976 г. священнослужителя перевели в Свято-Троицкую церковь «Кулич и пасха». Храм был вновь открыт сразу же после окончания войны, в 46-м, и оставался одним из немногочисленных действовавших в городе. У большинства ленинградцев с этим храмом были связаны какие-то дорогие воспоминания.
Его архитектура необычна: церковь «Кулич и Пасха» (храм и колокольня) даже в самую морозную зиму или промозглую осеннюю слякоть своей формой напоминает о весне, Пасхе, о пробуждении к жизни.

Василий Ермаков служил здесь вплоть до 1981 года.
Последнее место пастырского служения
C 1981 г. отец Василий был переведен в храм преподобного Серафима Саровского, находящийся на Серафимовском кладбище. Он стал последним местом пастырского служения знаменитого священника.
Здесь митрофорный протоиерей (т. е. протоиерей, награжденный правом ношения митры) Василий Ермаков прослужил в качестве настоятеля более 20 лет. Высоким примером, образцом преданного служения ближнему был для него Саровский, в чью честь построен храм.

Батюшка до последних дней проводил здесь все свое время, с ранних литургий до позднего вечера.
15 января 2007 года, в день преподобного Серафима Саровского, священник произнес перед своей паствой прощальную проповедь, посвященную святому. А 28 января отец Василий провел последнюю службу.
Духовный центр
Небольшой деревянный храм преподобного Серафима Саровского, в котором служил любимый многими пастырь, был первым русским храмом, построенным в честь святого. Он славился тем, что в течение его столетней истории всегда имел наиболее многочисленный приход.
Во время служения там Василия Ермакова, одного из самых известных и почитаемых российских священников, это место стало настоящим духовным центром, куда со всех концов огромной страны верующие стремились за советом и утешением. На праздники здесь причащались около полутора-двух тысяч человек.
Далеко за пределы храма разносилась слава о неисчерпаемой духовной силе и жизненной энергии, которой до конца своих дней делился с прихожанами отец Василий Ермаков, фото которого предоставлено вашему вниманию в статье.

В одном из своих интервью священник рассказал о периоде советской истории великого храма. Начиная с 50-х годов, он был местом ссылки, куда отправляли священнослужителей, неугодных властям - своеобразной «духовной тюрьмой».
Здесь служил старостой бывший партизан, поддерживавший определенные отношения с уполномоченным по делам религии Г. С. Жариновым. В результате «сотрудничества» с властью старосты храма, были сломаны судьбы многих священников, которые получали запрет на проведение богослужений и навсегда лишались возможности получить приход.
Придя сюда в 1981 г., отец Василий застал в храме дух диктаторства и страха. Прихожане строчили друг на друга доносы, адресованные митрополиту и уполномоченному. В церкви царила полная неразбериха и беспорядок.
Священник попросил у старосты только свечи, просфоры и вино, сказав, что остальное его не касается. Он произносил свои проповеди, призывая к вере, к молитве и к храму Божьему. И поначалу некоторыми они были встречены в штыки. Постоянно староста усматривал в них антисоветчину, предупреждая о недовольстве уполномоченного.
Но постепенно в церковь стали приходить люди, для которых было важно, что здесь в самый пик советского застоя (начало и середина 80-х) можно безбоязненно поговорить со священником, посоветоваться, получить духовную поддержку и ответы на все интересующие жизненные вопросы.
Проповеди
В одном из последних интервью священнослужитель сказал: «Я несу духовную радость уже 60 лет». И это правда - он был нужен многим как утешитель и ходатай за ближних перед Богом.
Проповеди Василия Ермакова всегда были безыскусными, прямыми, шли от жизни и ее насущных бед и доходили до самого сердца человека, помогая избавиться от греха. «Церковь зовет», «Идите за Христом, православные!», «Об обязанностях человека», «О преступлении и милосердии», «Об исцелении», «Русские люди», «Печаль и слава России» - далеко не весь их перечень.
«Самый лютый грешник - лучше тебя…»
Он всегда говорил, что очень плохо, когда христианин в своем сердце превозносится над другими, считает себя лучше, умнее, праведнее. Тайна спасения, трактовал протоиерей, заключается в том, чтобы считать себя недостойнее и хуже всякой твари. Присутствие в человеке Духа Святого помогает ему понять свою малость и некрасивость, увидеть, что «лютый грешник» - лучше его самого. Если же человек поставил себя выше других, это знак - нет в нем Духа, ему необходимо еще работать над собой.
Но и самоуничижение, пояснял отец Василий, тоже плохая черта. Христианину положено идти по жизни с чувством собственного достоинства, ибо он - вместилище Духа Святого. Если же человек раболепствует перед другими, он недостоин того, чтобы стать храмом, где обитает Дух Божий…
«Боль, если сильная - то короткая …»
Христиане должны искренне молиться, от всей души и всего сердца. Молитвой привлекается Дух, который поможет человеку избавиться от грехов и наставит на праведный путь. Иногда человеку кажется, что он - самый несчастный на земле, бедный, больной, никто его не любит, везде не везет, весь мир ополчился против него. Но часто, как говорил Василий Ермаков, эти несчастья и беды оказываются преувеличенными. По-настоящему больные и несчастные люди не выказывают своих болезней, не стенают, а молчаливо несут свой крест до конца. Не они, а у них люди ищут утешения.
Люди жалуются, потому что обязательно хотят быть счастливыми и довольными здесь, в этом мире. У них нет веры в вечную жизнь, они не верят, что существует вечное блаженство, хотят насладиться счастьем здесь. И если встречают помехи, кричат, что им плохо и даже хуже всех.
Это, учил священник, неправильная позиция. Христианин должен суметь по-другому взглянуть на свои страдания и несчастья. Хоть это и трудно, но ему необходимо полюбить свою боль. Нельзя искать довольства в этом мире, проповедовал батюшка. «Пожелай Царства небесного, - говорил он, - паче всего и тогда вкусишь свет…» Земная жизнь длится одно мгновение, а Царствие Божие - «бесконечные веки». Надо здесь немного потерпеть, и тогда там вкусишь вечную радость. «Боль, если сильная, то короткая, - учил прихожан отец Василий, - а если долгая, то такая, которую можно терпеть…».

«Сохранять русские духовные традиции…»
Каждая проповедь протоиерея Василия была проникнута истинным патриотизмом, заботой о возрождении и сохранении отечественных духовных устоев.
Большой бедой в непростое время, которое переживает Россия, отец Василий считал деятельность так называемых «младосвятов», которые относятся к службе формально, не вникают в проблемы людей, чем отталкивают их от церкви.
Русская церковь традиционно относилась к таинствам тонко, большое значение придавала тому, чтобы их смысл человек воспринял всей душой и сердцем. А сейчас, сокрушался священник, все «задавили» деньги.
Священнослужителю, в первую очередь, необходимо внимать голосу совести, слушаться первосвятителей, архиереев, на своем примере учить прихожан вере и страху Божьему. Только так можно поддерживать старинные русские духовные традиции, продолжать непростую битву за душу русского человека.
За свою достойную всяческого уважения службу Василий Тимофеевич был награжден:
- в 1978 г. - митрой;
- в 1991 г. получил право служения Божественной литургии;
- к 60-летию (1997-й) отец Василий был удостоен ордена святого благоверного князя Даниила Московского;
- в 2004 г., в честь 50-летия священнослужения, получил орден преподобного Сергия Радонежского (II степени).
Кончина
В свои последние годы батюшка очень страдал от мучительных телесных немощей, но продолжал служить, отдаваясь всецело Богу и людям. И 15 января 2007 года (день преподобного Серафима Саровского) он обратился к своей пастве с прощальной проповедью. А 2 февраля, вечером, над ним было совершено таинство елеосвящения, после чего, спустя некоторое время, его душа отошла к Господу.
Три дня подряд, несмотря на февральскую стужу, сильный мороз и ветер, с утра до ночи шли к нему его осиротевшие чада. Вели свою многолюдную паству священники. Сдержанный плач, горящие свечи, пение панихид и живые розы в руках у людей - так провожали в последний путь праведника.
Его последним пристанищем стало Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге. Погребение состоялось 5 февраля. Огромное количество представителей духовенства и мирян, пришедших на заупокойную службу, не умещалось в храме. Богослужение было возглавлено викарием Санкт-Петербургской епархии архиепископом Тихвинским Константином.
Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге имеет богатую и славную историю. Оно известно как некрополь выдающихся деятелей науки и культуры. В начале Великой Отечественной кладбище было вторым после Пискаревского по численности массовых захоронений умерших во время блокады ленинградцев и погибших воинов. Воинская мемориальная традиция продолжалась и после войны.
Прощаясь с любимым пастырем, многие не скрывали слез. Но не было у провожавших его уныния. Батюшка всегда учил свою паству быть верными христианами: крепко стоять на ногах и стойко переносить житейские скорби.
Память

Парафияне не забывают любимого пастыря: время от времени ему посвящаются вечера памяти. Особенно торжественно в феврале 2013 г. прошел вечер памяти, посвященный дню шестой годовщины кончины популярного священнослужителя (концертный зал «У Финляндского»), в котором приняли участие как простые прихожане, так и выдающиеся люди России: контр-адмирал Михаил Кузнецов, поэтесса Людмила Моренцова, певец Сергей Алещенко, многие духовные лица.
Памяти Василия Ермакова посвящены также некоторые публикации в СМИ.
В заключение
Священник всегда говорил: надо молиться и верить, и тогда Господь сохранит народ и святую Русь. Никогда нельзя падать духом, нельзя гнать Бога из своего сердца. Надо помнить, что когда становится трудно, в окружающей жизни всегда найдется поддержка близких и духовный пример.
«Мои родные русские люди, дети 21 века, - увещевал свою паству отец Василий, - храните веру православную, и Бог вас никогда не оставит».
Об отце Василии Ермакове мне писать сложно. Так много пережито такого, о чем не расскажешь посторонним. Да и за каждое слово придется отвечать. Я смотрю на его ласковое лицо, глядящее на меня с фотографии над моим письменным столом, и читаю укор в его взгляде. Эх, несоделанное мое… А ведь так много можно было сделать под его окормлением.
Я узнал об отце Василии от своих коллег - режиссера научно-популярной киностудии Дмитрия Делова и оператора Сергея Левашова.. Они к тому времени уже несколько лет ходили в Серафимовский храм. Я же, когда возникала нужда в духовном совете ездил в Псково-Печерский монастырь к отцам Адриану и Иоанну Крестьянкину. Но в большинстве случаев поступал по своей воле.
«Зачем ты ездишь в Печоры, когда сам отец Иоанн благословил всех питерцев ходить к отцу Василию на Серафимовское!», - упрекали меня друзья-семинаристы и «академики». (Я тогда в основном ходил в Лавру и семинарский храм).
Через некоторое время Инна Сергеева, работавшая на кухне при Серафимовском храме, сказала, что отец Василий ждет меня. Я принял это за шутку. Прошло года два, и Инна снова напомнила мне об этом.
Да как он может ждать меня, когда я его никогда не видел. Нечто я Нафанаил под смоковницей?
Вот иди - и узнаешь.
После некоторого колебания я все же отправился на Серафимовское. Было любопытно узнать, отчего меня ждет батюшка, но была еще одна причина. Я подружился с ныне покойным отцом Михаилом Женочиным, и он звал меня к себе в Гдов, где он строил храм. Звал он и молодых людей, объявивших себя казаками: там и граница, где они могли быть полезными, и земли вдоволь - можно отстроиться и создать казачью станицу, которая могла бы стать центром возрождения казачества: с летним лагерем и духовно-просветительским центром. Местные люди к вере были равнодушны, и отец Михаил хотел создать из петербуржан ядро, вокруг которого можно бы было организовать приход и интересную приходскую жизнь. Но желающих уехать из Петербурга в провинцию не нашлось. Я же очень хотел поддержать отца Михаила и даже избу купил по соседству с ним. Места там замечательные и мне знакомые. Рядом церковь - единственное, что осталось от имения Кярова, принадлежавшего графу Коновницыну - герою войны 1812 года.
В ней несколько лет служил отец Роман Матюшин. Я навещал его и слушал только что написанные им песни. За рекой - развалины имения князей Дондуковых-Корсаковых. В пяти верстах Чудское озеро. Грибной и ягодный лес начинался сразу за деревней. Я, действительно, собрался перебраться туда. Моя жена сказала, что нужно на такое серьезное дело взять благословение у опытного священника, и мы отправились к отцу Василию.
Встретил он нас так, будто, действительно ждал несколько лет. О Гдове приказал забыть: «Чего тебе там? Ходи ко мне. И тут дел навалом».
Так мы стали «серафимовскими». Жили мы в Купчино. Дорога до Серафимовского храма была дальняя. Езда с двумя пересадками. Дети маленькие. Приходилось брать с собой еду, запасную одежду и все, что может понадобиться малышам. Я роптал: «Зачем детей мучить? В храме давка - не протолкнешься. Появятся вопросы - съезжу за советом». Но жена была непреклонна. Уверяла меня, что к отцу Василию нужно ездить на службу. И мы ездили. Наши новые знакомые в один голос говорили, что у тех, кто ходит к отцу Василию, жизнь непременно налаживается. По его молитвам люди исцеляются и избавляются от всяких бед. К нашей подруге вернулся муж, бросивший ее с двумя детьми. Она несколько лет практически не покидала храм. Батюшка говорил ей: «Ходи-молись. Вернется твой разбойник».
У батюшки был особый дар проявлять любовь так, что человек не только чувствовал эту любовь, но еще и был уверен в том, что его-то батюшка любит больше, чем прочих. Мне тоже так казалось. Когда я появлялся в храме, батюшка подмигивал мне и на всю исповедальню объявлял: «Богатырев явился. Вот он - богатырь земли русской». Я всякий раз конфузился. Господь силушкой меня не наградил, и фамилии своей я не соответствую. Тем более, что в детстве и юношестве нередко находились любители испробовать на деле, каков я богатырь. Драться я не любил. Никогда не мог ударить человека в лицо. И богатырство мое нередко бывало посрамлено. А после такого батюшкиного приветствия я чувствовал себя самозванцем и испытывал неловкость. Люди, пришедшие к батюшке намного раньше меня, не скрывали своего раздражения, видя во мне выскочку, ничем не заслужившую сугубого батюшкиного внимания. Между тем я был введен в «ближний круг» - приглашен в алтарь и к участию в чаепитии и трапезе.
По этому поводу я испытывал сложные чувства. Стыдно, но это льстило моему самолюбию, но еще больший стыд я испытывал оттого, что многое из заведенного на кухне меня раздражало. Женщины, стоявшие на кухне, при открытых в алтарь дверях, могли во время службы засунуть в алтарь голову и что-то довольно громко сказать батюшке. И батюшка их за это не ругал, не налагал эпитимий. Раздражало меня и то, что этот «ближний круг» занимал много батюшкиного времени пустыми разговорами в то время, как во дворе стояли толпы людей с реальными бедами и проблемами. Некоторые приезжали из других городов. Вопросы у «приближенных» зачастую бывали совершенно пустые. Однажды пожилая женщина, знавшая отца Василия еще со времени его служения в Никольском соборе, перебив всех, громко вопросила: «Батюшка, на каком трамвае благословишь домой ехать?»
Поезжай на сороковом.
Вопрошательница вдруг громко зарыдала. Видно, по сердцу был другой номер.
Позже я понял, что батюшке после службы нужно было просто отдохнуть с давними знакомцами. С ними он мог расслабиться. Серьезные беседы требовали большого расхода душевных и физических сил. А сил оставалось все меньше. Иногда он садился на диван в пономарке и сразу же начинал похрапывать. Но проходило несколько минут, и громкий голос кого-нибудь из алтарников или дьяконов будил его. Меня всегда огорчало то, что окружавшие батюшку люди не берегли его сон. Он же после прерванного краткого сна вставал и устремлялся по своим делам, никого не упрекая и не ругая. Нередко он появлялся в храме в шесть утра и уходил поздно вечером. В перерыве между службами общался с народом.
Часто можно было услышать с сокрушением произносимую фразу: «Учу вас учу, а все без толку». Многие не понимали: чему он нас учит? А суть его учения заключалась не в том, как готовиться к причастию и сколько канонов прочесть, а в привитии человеку понимания того, что Церковь - это
Мать. И без Нее нет спасения в этом мире. Он прививал живое чувство веры. К одним он был строг. Иногда до чрезвычайности. К другим же проявлял снисхождение, понимая, что бремена непосильные могут отвратить их от спасительного пути.
Батюшка часто давал советы в шутливой форме. Новоначальной прихожанке, хотевшей каждый день прочитывать Псалтирь, он дал такое благословение: «Ты, мать, запомни: утром - утреннее правило, а вечером - вечернее. И смотри - не перепутай».
Если он видел в человеке гордеца, и чувствовал, что тот не станет выполнять его советов, на заданные вопросы батюшка мог довольно резко ответить: «А я почем знаю? Ты человек ученый, а я мужик деревенский. Чего у меня спрашивать. Ты сам все знаешь».
Муж сестры Тамары Глобы (бывшей не Глобой, а Трескуновой - ассистенткой на картине, снятой по моему сценарию) жаловался мне на отца Василия. Тот на его разглагольствования махнул рукой и послал его вон. Времени у батюшки на интеллигентскую болтовню, целью которой было утвердиться в безбожии или какой-нибудь гуманистической благоглупости не было. Он с большим удовольствием шутил по поводу гордыни и непробиваемости «ученых мужей». И очень ценил хорошую шутку. Но только если она не была пошлой. «Ад достоин всяческого посмеяния». Поэтому батюшка радовался, как ребенок, когда удавалось уязвить врагов Церкви. Он сам часто подтрунивал над занудами и людьми полагавшими, что он будет за них молиться, а им уже ничего не надо делать для собственного исправления.
Мне постоянно говорили, что я обязан снять фильм о батюшке, и я для начала снял несколько его служб. Но когда я пытался снимать отца Василия в непринужденной обстановке, он всегда либо махал руками и приказывал прекратить съемку, либо становился неестественно важным. Батюшку нельзя было заставлять «петь не своим голосом». Не нужно было просить его рассуждать на богословские темы. Батюшка же сам о себе говорил, что он «практик». Феномен его служения заключался в молитве о вверенных ему чадах. Нужно было не организовывать съемку - он терялся и терял естественность при нацеленной на него камере, а подсматривать, как он общается с людьми. Но этого он в ту пору не позволял. Камеры в храме появились гораздо позже. В последние годы иногда батюшку снимало несколько десятков наших прихожан и «ненаших», приехавших к нему за советом. Все же мне удалось побывать с ним на его родине и снять его в естественной обстановке.
Мы встретились не договариваясь в Оптиной пустыни. Он приехал туда из Болхова с орловскими родственниками. Рядом с монастырем поселилась наша общая знакомая - монахиня из Москвы. Она пригласила нас на чай после воскресной литургии. В числе приглашенных был некто Мыкола, приехавший в Оптину из Полтавы. Он прошел сквозь огонь, воду и все известные музыкальные инструменты. По природе очень деловой человек, он с легкостью придумывал и совершал авантюрные дела, а результат довольно скоро пропивал и прогуливал. Такая жизнь опустошила его. Потеряв к ней интерес, он по чьему-то совету приехал в Оптину Пустынь. Но понять для чего взрослые люди часами стоят, слушая монашеское пение, он долго не мог. Прошло немало времени, прежде, чем он в первый раз исповедался. Но и это не помогло. Он сидел с нами за столом, с удивлением прислушивался к нашему разговору.
Что Мыкола молчишь? - спросил его отец Василий.
Да я слушаю. И думаю, - ответил он.
Может, спросить чего хочешь? - продолжал батюшка. - Я вижу, у тебя много вопросов.
Да, на мои вопросы до утра отвечать будете, - усмехнулся Мыкола.
Ну, и давай поговорим до утра. Поехали со мной ко мне на родину, - неожиданно предложил батюшка. - Ты тут все равно ничего не делаешь.
Мыкола помолчал несколько минут, потом решительно мотнул головой: «Поехали».
Ну, и ты, Сашка, дуй с нами, - неожиданно обратился отец Василий ко мне.
Меня уговаривать не пришлось. Мы вышли с Мыколой из избы.
Что это за батек? - спросил он меня.
Я сказал ему, что Господь призрел на него и послал ему именно того, кто вразумит его и изменит его жизнь.
Мыкола недоверчиво пожал плечами и рассказал о неудовольствии батюшкой многих монахов. Дело в том, что отец Василий сказал после службы проповедь, в которой обличил некоторых монахов-младостарцев, возомнивших себя опытными духовниками. Батюшка знал много случаев, когда от чрезмерной строгости таких монахов, люди приходили в отчаяние и переставали вообще ходить в Церковь. Досталось от батюшки и тем, кто вел яростную борьбу с ИНН.
Я пообещал по дороге прокомментировать эту историю.
Мы выехали на двух машинах. Родственники отца Василия - на одной. Мы с отцом Василием и Мыколой - на мыколиной «Шкоде». У ворот нас поджидала целая толпа питерцев, оказавшихся в этот день в Оптиной. Некоторые стали проситься с нами. Всем хотелось попасть с батюшкой на его родину.
Еще увидите мою родину, - пообещал батюшка.
Так и произошло. Через несколько лет духовные чада отца Василия стали приезжать в Болхов целыми автобусами.
Мы сидели в машине, как батюшка вдруг приказал остановиться. Он вышел и направился к группе военных, шедших в сторону монастыря. Я поспешил за ним. Батюшка решительно встал у них на пути и, радостно улыбаясь, произнес длинную тираду, от которой военные буквально опешили. Это были генералы и полковники медицинской службы. В отце Василии трудно было признать священника: борода короткая, стрижка, в отличие от снующих повсюду монахов, тоже короткая. Одет в куцый плащик пятидесятых годов. На голове неказистая шляпа той же поры. Стоптанные грубые ботинки фабрики «Скороход». Что за человек?! Местный козельский дедушка - да и только. А дедушка этот радостно говорит им: «Верной дорогой идете товарищи. Комиссары ее от вас долго загораживали. А вы - молодцы! Идите по ней всегда. Будьте настоящими воинами Христовыми. Тогда никакой враг вас не одолеет. Вы моложе меня. Не знаете войны. А я знаю. И знаю, что без Бога - не видать бы нам победы. Как только открыли коммунисты храмы, так и отступать перестали. И вы никогда не отступайте. Уповайте на Бога! Уж Он-то никогда не подведет!»
Военные медики слушали отца Василия, переминаясь с ноги на ногу. Были они ужасно похожи друг на друга: низкорослые, с одинаковыми пузцами и все, как один, совершенно без шей. Возможно, шеи и были, но они втянули их от испуга. В начале девяностых с военными еще так не разговаривали. Отец Василий широким крестом благословил их и попрощался за руку с каждым. Те послушно протягивали ему руки, но было видно, что смущение их еще больше усилилось. Генералы обычно подают руку первыми. Если вообще подают…
Сначала мы заехали в Шамордино. Монахини узнали батюшку, и буквально через минуту навстречу нам шла радостная настоятельница. Она провела нас в храм, рассказала о трудностях, с которыми постоянно приходится сталкиваться при восстановлении обители. Мы сходили на монастырское кладбище. Нам показали могилу сестры Льва Толстого. Батюшка спел «Со святыми упокой». Мы, как могли, подтягивали вместе с монахинями. Спустились к источнику. Потом батюшку на целый час увели от нас насельницы. Желающих получить духовный совет оказалось немало. Мы с Мыколой прошли назад по дороге, выбрали точку, и я поснимал прекрасные виды. Дорога к Шамордино лежит на вершине высокого холма, с которого открываются бескрайние дали. Сам холм широкой дугой опоясывает просторную долину. Внизу серебряной змейкой вьется речка с ракитами по берегам. За ней до самого горизонта луга с аккуратными стогами. Монастырь с островерхим храмом венчал правый край открывшейся перед нами картины, и казалось, что весь этот пейзаж придуман исключительно для того, чтобы подчеркнуть его величие и красоту.
Потом мы долго ехали вдоль пологих холмов, покрытых березовыми перелесками. Белые стволы казались прозрачными на фоне голубого неба. Подъехали к Белеву - родине поэта Жуковского. Грустная картина. Обшарпанные серые дома, давно позабывшие о существовании маляров и штукатуров. Разгромленные церкви. Огромные ямы посреди центральной улицы. Асфальт давно кончился, а за Белевым и грунтовая дорога практически прекратилась. Мыкола стонал и мычал, когда его новая «Шкода» билась днищем о колдобины: «Долго еще так ехать?» - жалобно спрашивал он у отца Василия.
Терпи, Коля, - смеялся батюшка. - Вот и немцы во время войны на своих «Виллисах» и «Хорхах» очень этим делом интересовались.
Пока дорога была еще проезжабельной, Мыкола задавал отцу Василию разные вопросы, из чего стало ясно, что он не имеет никакого представления ни о Церкви, ни о духовной жизни. Батюшка очень скоро утомился и, услышав очередной нелепый вопрос, кивал мне: «Ну-ка, скажи ему».
Я старался отшучиваться. Но если уместно было поговорить о чем-нибудь серьезно, то отвечал серьезно. Катехизация получилась забавной и продолжалась она без перерыва 10 дней, поскольку после Болхова я пригласил Мыколу к себе в Петербург.
В одном месте батюшка попросил остановиться. Мы вышли и спустились в яблоневый сад. Я никогда прежде не видел такого изобилия. Ветки яблонь низко наклонились от тяжести огромных плодов. Вся земля была усеяна яблоками. Батюшка поднял несколько особенно крупных яблок и стал их по очереди надкусывать. Я последовал его примеру. Сладкие, сочные. Батюшка тяжело вздохнул: «Где же хозяин? Уже из Голландии и Израиля яблоки возим, а свои пропадают»…
В Болхов мы приехали поздно. Выпили чаю с бутербродами и стали устраиваться на ночлег. Нам с Мыколой определили по отдельному месту. Сам же батюшка лег с мужем своей племянницы на малоудобную полуторную кровать с панцирной сеткой. Все мои попытки позволить мне лечь на полу закончились строгим батюшкиным приказом «лечь, куда велено, и не перечить». В первую ночь я так и не смог уснуть. Было ужасно неловко. Бедный батюшка! Такое неудобное ложе, да еще и на двоих. Но батюшка довольно быстро уснул. И сосед его тоже был горазд спать в спартанских условиях.
Утром мы пошли на кладбище поклониться батюшкиным родителям. Служить литию он не стал, тихо помолился и повел нас вверх по улице, ведущей к местной «поклонной горе». Там, на площадке с огромными бетонными буквами, сложенными в название города «Болхов», мы долго разглядывали лежавший под нами город. Я насчитал семь церквей вместе с развалинами Троицкого Оптина монастыря, стоявшего вне города на высоком холме. Но, кажется, были и другие церкви. Просто их не видно с той точки, где мы находились. Отец Василий стал показывать место, куда немцы гоняли его вместе с другими болховчанами на рытье окопов. Рассказал о том, как отступали наши войска, бросая город на произвол судьбы. Никакой эвакуации, кроме семей начальников не было. Вместо того, чтобы раздать съестные припасы брошенному населению, было велено их сжечь.
Затем мы вернулись в город, перешли речку по подвесному мосту и пошли в сторону Троицкого Оптина монастыря. Проходя по улицам, по которым он ходил в школу и в церковь, показал места, где стояли соседские хулиганы, издевавшиеся над ним. Его дразнили «попом». Похоже, дело не заканчивалось одними оскорблениями. Но подробностей он нам не поведал. За речкой шла череда холмов, разделенных оврагами. Мы поднялись на ближайший, откуда открывался замечательный вид на ту часть Болхова, откуда мы пришли, где стоял родительский дом отца Василия.
Батюшка долго стоял, предаваясь воспоминаниям. Рассказывал о соседях, показывая, кто где жил и чем ему запомнился. Время было тяжелое. К его отцу часто приходили за советом соседи, попавшие в беду. В доме всегда было многолюдно. С той поры батюшка привык слушать «глас народа», вдаваться в детали и суть проблем. Он с детства узнал о нужде, людском горе. О репрессиях и зверствах безбожной власти ему было известно не понаслышке. Арестовывали священников, активных прихожан. Много людей исчезло безо всяких объяснений причин. Показывая, где стояла мельница, где были лавки на улице спускавшейся к реке от соборной площади, батюшка покачнулся и чуть не наступил на свернувшегося клубком ежа. Более получаса он смеялся, рассматривал укутанного в желтые листья ежа, осторожно поддевал его носком ботинка, чтобы тот развернулся и побежал. Но тот только фыркал и оставался в прежнем положении. У меня что-то случилось с камерой, и я не смог заснять этой удивительной сцены. Жаль! Ах, как жаль! Батюшка был такой веселый, стал рассказывать что-то о детстве, чего я, к сожалению, не запомнил. Помолодел на глазах. И если до этого шагал с трудом (я боялся, что он не дойдет до монастыря), то после этой встречи с ежом он шел бодро, чуть ли не вприпрыжку.
У развалин монастырского собора настроение батюшки изменилось. Он погрустнел. Да и было отчего. Внутри собора зияли ямы - это комсомольцы искали сокровищ. Стены были ободраны и испещрены непристойными надписями. Кресты сбиты. Заросли лопуха подошли вплотную к стенам. Воистину мерзость запустения.
Батюшка долго ходил, вздыхал: «Ничего у них не выйдет с их перестройкой, пока не покаются и не восстановят разрушенных храмов. Бог поругаем не бывает!»
Теперь, глядя на восстановленный монастырь, трудно представить в каком положении он был 20 лет назад.
Вечером мы с Мыколой помогали батюшке собирать яблоки в саду. Набралось 2 мешка. Как их доставить в Петербург? Я предложил Мыколе поехать ко мне в гости, заодно завести яблоки батюшке. Обещал показать ему город, отвезти к Ксении Блаженной и к отцу Иоанну Кронштадтскому, а главное - чтобы он побывал на батюшкиной службе и познакомился с общиной Серафимовского храма. К удивлению, Мыкола сразу же согласился. Он сказал, что несколько раз уже беседовал с отцом Илием, а теперь неплохо бы сравнить двух старцев. Резоны его были малопонятны. Он решительно не понимал, как ему отказаться от мирских удовольствий и полагал, что найдет духовника, который позволит ему и с барышнями веселиться, и кое-что для Церкви делать. Что именно - он представлял с трудом.
В Болхове мы пробыли три с половиной дня. Побывали на службе в двух действовавших тогда храмах. В храме Рождества Христова на всенощной. В этой церкви служил до войны отец Василий Веревкин. Этот священник сыграл очень важную роль в жизни батюшки. Под его водительством он делал первые шаги в Церкви. С ним молодой Вася Ермаков был угнан немцами в Эстонию, где обрел второго учителя - фактически спасшего ему жизнь. Это был отец Михаил Ридигер. С его сыном - будущим Патриархом Алексием Вторым отец Василий сохранил дружбу на всю жизнь. Но это особая история.
А в Болхове мы отстояли литургию во Введенской церкви. Батюшка сослужил настоятелю - молодому многочадному отцу Петру.
Эта церковь запомнилась тем, что в ней хранилась деревянная статуя Николая Угодника, перенесенная из собора да еще хором из четырех древних старушек. Они пели такими жалостными, дребезжащими голосами, что казалось: вот-вот испустят дух. И распев у них был особый - отдаленно похожий на обиход неведомый девятый болховский глас для не столько поющих, сколько жалобно вопиющих.
После службы певчие вместе с другими старушками долго одолевали батюшку. Он рад был видеть знакомые с детства лица. Потом мы отправились на воскресную ярмарку. По дороге батюшка говорил о том, как он любит Болхов - город церквей. Сокрушался о том, что нынешний народ растерял веру и не испытывает нужды в храмах, которые воздвигли их предки. Я спросил его «не хочет ли он последние годы жизни провести на Родине?» Он тяжело вздохнул: «Да как оставишь моих питерских чад»…
На ярмарке отцу Василию ничего не было нужно. Он просто хотел посмотреть на земляков. Он заговаривал с торговцами съестного и хозяйственного товара, делал вид, что приценивается, но ничего не покупал. Он довольно долго ходил по рядам. Мыкола томился, с тоской поглядывал на пивной ларек. Но мы условились, что ничего спиртного в Болхове пить не будем.
Собирались мы поехать в Спас-Чекряк, где служил причисленный к лику святых отец Георгий Косое, но этим планам не суждено было сбыться. Появились какие-то люди, прознавшие о приезде батюшки. На следующий день мы освящали дом вернувшихся с севера болховчан. Потом крестили на дому полугодовалую девочку. Я читал «Апостол», подпевал батюшке.
Все, вернемся, я из тебя дьякона сделаю, - объявил мне свою волю отец Василий.
Но о поездке в Спас-Чекряк пришлось забыть. Племянница рассказала отцу Василию о каких-то семейных делах, требовавших скорейшего возращения в Орел.
Батюшка с племянницей и ее мужем поехали в Орел, а мы с Мыколой на его груженой болховскими яблоками «Шкоде» - в Петербург с заездом в тверскую деревеньку, где жила с дочерьми моя жена. Почти всю дорогу Мыкола рассуждал о рачительности и умении жить «хохлов» и никчемности «москалей». Показывая на покосившиеся избушки, стоявшие вдоль дороги, он говорил: «Во, москали, зробылы соби халабудок та и живуть потихесеньку. А шо це за життя!» Но когда халабуды сменились петербургскими дворцами, он поутих. Но тут уж я дал волю рассуждениям о дружбе народов, о преступлении политиков, о трагическом разрыве единого организма, о готовности лечь под наших врагов, и об умении «грести до сэбэ», куда и Крым с Новоросией попали под сурдинку. Говорил я все это шутливой форме, но мой гость «надувся».
В Петербурге ему понравилось. Батюшка встретил его, как старинного друга, обласкал и прилюдно заявил, что «у раба Божьего Николая все будет очень хорошо».
Это обещание исполнилось. Мыкола теперь уважаемый человек - Николай Емельянович – хозяин гостиницы при Оптиной Пустыни. Живет барином в огромном доме. Выстроил целую деревню, куда съехались прекрасные работники - родственники и полтавские знакомцы. У него тучное стадо дойных коров и бычков, десятки гектаров черноземов. Но главное - его стараниями восстановлен храм Ильи Пророка, куда на престольный праздник приезжают служить оптинские священники с несколькими автобусами паломников. Внизу под храмом Емельяныч расчистил источник и построил купальню. Говорят, вода в нем святая, и уже отмечены случаи исцелений.
А вот со мной вышла незадача. Дьяконом я не стал. Конечно, по своим грехам. Да и слабаком я оказался. По приезде из Болхова батюшка установил череду, когда мне надлежало читать часы и апостол. Я встретил неожиданное противодействие. Чтецы всячески показывали недовольство появлением конкурента, а один священник преподал мне такой урок «христианской любви», что я долго не появлялся в Серафимовском храме. Когда же я снова появился и рассказал отцу Василию о причине моего исчезновения, тот горько вздохнул: «Эх, ты… Не мог потерпеть. Что думал, тебя конфетами с букетами встретят? А как меня гоняли! От одного Кузьмича можно было в Антарктиду сбежать». (Кузьмич был стукачом из спецслужб в ранге старосты).
Он махнул рукой: «Давай, изживай гордыню. Кто тебе сказал, что тебя все будут любить и по головке гладить? Царство Небесное нудится. А ты думаешь, что жизнь - это ЦПКиО с каруселями и качелями…»
Больше речи о дьяконстве он не заводил. Фильм о нем приказал пока не делать: «А то будет нам и от братии и от лжебратии».
Некоторое время он никому, кроме Людмилы Никитиной не позволял себя снимать, но через несколько лет бороться с видеокамерами уже стало невозможно. И батюшка перестал обращать на них внимание. Мне он приказал собирать материал: «Потом поглядим, что с ним делать».
Дьяконом я не стал, но жизнь моя и вправду наладилась. Как-то незаметно выбрались из безденежья. Однажды батюшка в алтаре читал записки. В одной из них было 500 рублей. При свирепствовавшей тогда девальвации - копейки. Батюшка протянул мне эту купюру, подмигнул и приказал: «Копи деньги!». С тех пор худо-бедно, но ни одного дня не голодали. Хватало на все. Я уверен, что по батюшкиным молитвам мы и квартиру в центре города получили в номенклатурном доме. Шансов не было никаких, ан - получили. Была еще одна беда, которой удалось избежать. Меня оклеветали и могли посадить на 4 года за то, что я организовал протест против увольнения с работы замечательного человека.
На его место метила любовница очень большого начальника. И я попал в ситуацию: завертелась карательная машина, и остановить ее могло только чудо. И чудо совершилось.
Моя благодарность и любовь к батюшке велика, но и безмерно раскаяние оттого, что я много раз огорчал его. Ему нравились мои опусы, и он постоянно говорил: «Так держать! Громи фашистского бродягу! Пиши больше!»
Но писал я мало. И молитвенник из меня не вышел. Разве что в оставшееся отпущенное мне время стану трудиться больше.
Прости, меня батюшка, окаянного.